ГРАММАТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПУНКТУАЦИИ
Aннотация
Пунктуация, появившаяся как изобретение переписчиков, эволюционировала до статуса философского средства и все чаще проявляет симптомы своей эмансипации в письме. Два французских философа, представляющих две разные эпохи в истории философской мысли, с разных позиций критиковали пунктуацию и по-разному ею пользовались. Если Ж.-Ж. Руссо считал ее симптомом «наращивания артикуляции» в письме, то Ж. Деррида воспринимал ее как «агента устной речи» (интонации) и пытался выработать «новый способ чтения» - атональную артикуляцию. Поскольку, согласно В. Россману, философствовать можно и пунктуацией, некоторые знаки препинания применяются как средство философствования, как, например, согласно Россману, кавычки у Деррида. Но, в отличие от Россмана, мы считаем, что кавычками Деррида перечеркивает интонацию пережившего инфляцию понятия в пользу его детонационного запаса. Сравнение языкологичных и текстологичных уровней артикуляции «Опыта» Руссо и «О грамматологии» Деррида подтвердило тезис о «наращивании артикуляции». Являясь лишь частным проявлением общей тенденции «наращивания артикуляции», пунктуация оказывается причастной не столько к озвученной Руссо проблеме «остывания» интонаций письма, сколько к ее «укрытию». Небольшой экскурс в историю западноевропейской и древнеславянской пунктуации показывает, что среди ее сторонников и противников были (обобщая) как рационалисты, так и иррационалисты. Пунктуация представляется неизбежной стадией на пути развития письменного разума. И ее роль в философском тексте еще не изучена сполна.
Знаки акцентов, как и вообще пунктуация, – это зло письма: это не просто изобретение переписчиков(курсив Деррида), это изобретение тех, кто переписывает тексты на чужом (курсив Деррида) для них языке; и переписчик, и читатель по сути своей оторваны от живого использования языка. Они хлопочут вокруг умирающего слова, пытаясь его приукрасить...
Ж. Деррида (О грамматологии)
Правила расстановки пунктуационных знаков изобретены в отечественной канцелярии и утверждены редакторами и коректорами тем прочнее, чем отдаленнее эти люди от письма...
В. Бибихин (Язык философии)
Текст Ж.-Ж. Руссо «Опыт о происхождении языков, а также о мелодии и музыкальном подражании», и текст Ж. Деррида «О грамматологии», в котором деконструируется «Опыт..», оба являются пунктуационными. Однако если Руссо критикует недоразвитость знаков препинания, указывая на их потенциальные возможности в передаче интонации, то Деррида, хоть и не склонен ни «к строгой синтаксической аскезе» [14, с. 69], ни, соответственно, к пунктуационному минимализму, все же заявляет о «зле» пунктуации. Как объясняет В. Россман, все знаки препинания, кроме кавычек, для деконструктора – это «свого рода “пятая колонна” устной речи внутри письма» [14, с. 74]. Парадокс в том, что сам Деррида, используя сложный синтаксис, подчеркивает «нефонетичность» пунктуации, характеризуя ее как «прекрасный пример нефонетического знака в письме. То, что она неспособна передать на письме интонацию и модуляции голоса, выявляет все убожество письма, ограниченного своми собственными средствами» [5, с. 400]. Почему Деррида в отношении пунктуации применяет этические категории («зло») мог бы прояснить тот факт, что письмо пунктуационно «симулирует» наличие интонации[1], против которой он выстраивает свой грамматологический бастион. Но слово «убожество» в приведенном отрывке ясно указывает, что здесь Деррида, как он думает, восполняет мысль Руссо, а не высказывает свою собственную позицию.
В. Россман виртуозно показал на примерах, что «философствовать можно не только пропозициями, но и синтаксисом» [14, c 69], включая его пунктуационные средства. Самым фундаментальным знаком деконструкции и основным ее символом он называет «кавычки», поскольку, как он считает, они единственные «остаются верными письму и графизму в целом» [14, c. 73-74], в то время как все другие пунктуационные знаки являются откровенными агентами устной речи. Оказывается, что «конвой кавычек» бережет письмо от «предательства» (в «эпохальном режиме» кавычек) речи. Интонацию в деконструкции Россман прочитывает просто как «логоцентрическую иллюзию» [14, c. 75]. Его «ирония» мешает ему дочитать важную вещь: Деррида пытается продемонстрировать нам, що у Руссо «позитивное» восприятие пунктуации всегда-уже переплетено с «негативным» (из-за своего несовершенства она слабо справляется с возложенной на нее функцией). То есть не может быть ни «верных», ни «предательских» пунктуационных знаков, особенно если интонация – это просто иллюзия. Но в том то и дело, что даже в условиях утраты интонацией «командной роли» в письме кавычки вместе с отсрочкой этой роли артикулируют предоставление «голоса» детонациям [4] текста, то есть фактически подводят к интонации – «обходным маневром» - с другой стороны. Прежде, чем остановиться на эпистемологической и культурной ипостасях кавычек в деконструкции (по В. Россману), предлагаем разобраться с тем, что пунктуация значила для Жан-Жака.
На самом деле, Руссо почти никак не отзывается о пунктуации в «Опыте»[2]. Небольшой фрагмент, где Жан-Жак прямо говорит о знаках препинания, смещен в «подвал» примечаний. Там Руссо сокрушается по поводу ее примитивности (или «убожества», как сказал Деррида), указывая через условную и вопросительную модальность на пути ее усовершенствования, чтобы «восполнять энергию интонации»: «лучшим из таких средств явилась бы пунктуация, будь она менее несовершенной. Почему, например, у нас нет звательного знака?» [15, c. 98]. Еще Руссо хотел бы видеть в письме специальные знаки для иронии[3]. А вопросительный знак он считал излишним по причине измененного порядка слов в вопросе, который не используется в других типах предложений.
Автор «Опыта» не обходит вниманием диакритические[4] знаки (в русском языке, например, две точки над ё, черточка над й, знак ударения: зάмок и под.), которые иначе еще называют «акценты»: «У нас нет никакого представления о звучном и гармоничном языке, который говорит столько же высотой звука, сколько его качеством. Те, кто считает, будто акцент можно передать знаками акцентов (выделено мной – О.Г.), ошибаются: эти знаки изобретают лишь тогда, когда интонация уже утеряна» [15, c. 100]. Вся глава «О просодии» посвящена критике письма вообще, не имеющего средств точно обозначать высоту звука, подобно музыкальным нотам. То есть рефлексия о пунктуации вызывает у Руссо «грезы» о возможных мирах (использует условное наклонение), где мелодия устной речи фиксируется на письме с четким ритмом и интервалами, подобно музыкальному произведению. Чтобы чтение текстов могло доравняться исполнительству фуг и сонат, а человеческий голос мог быть вполне использован как инструмент. И, что важно, Руссо говорит не об аудио-фиксации, с чем превосходно справляются современные технические средства, а об обогащении ресурсов точности – «нотации»[5] письменной речи, ориентированной на читателя: какими средствами ему достичь наибольшей ясности в чужом тексте. Этим исчерпывается критика пунктуации у Руссо. Теперь вернемся к кавычкам у Деррида.
Разберем пару примеров тех слов, что взяты под стражу кавычек в тексте Деррида. Сразу отметим, что закавыченных единичных слов не так много, как может показаться со слов Россмана.
- Первый неблагонадежный – слово «эпоха»: «Речь идет о чтении того, что можно было бы назвать «эпохой»[6] Руссо [5, c. 111]. Кроме кавычек, здесь используется условное наклонение (можно было бы), которое также детонирующе действует на затавренное кавычками слово. Клеймящая функция кавычек – ограничивать смысловое поле, причем в артикулированных ниже пределах: «За словом «эпоха» мы видели и структурный образ, и историческую целостность, хотя значение этого слова и не исчерпывается этими двумя определениями. Тем самым наше внимание было сосредоточено на этих двух важнейших моментах, которые мы стремились взаимоувязать, настойчиво обращаясь при этом к вопросу о тексте, о его историческом статусе, о его собственном времени и пространстве» [5, c. 111-112]. Относясь к минувшей «эпохе» как к тексту, Деррида стремится точечно (через закавыченные ключевые понятия) прервать ее линейность (мы называем эту процедуру детонацией, поскольку Деррида нацелен на тонации, не получившие статус «ин-»).
- Второй «предатель» – «полная» в отношении слова речь (de la parole «pleine» [28, p. 12]): «История истины, история истинности истины всегда была – за исключением одной метафорической уловки, которую нам нужно будет учесть, - приниженим письма, его вытеснением за пределы «полной» речи» [5, c. 116]. В данном случае кавычки клеймят безосновательность агрессии устной речи по отношению к письму, поскольку ее полнота явно ставится под сомнение.
- Третий, но не последний «конвоированный кавычками» в «О грамматологии», - «язык» («langage» [28, p. 15]): «Проблема языка (курсив Деррида), как бы ее ни понимать, никогда не была такой, как все. Но сегодня, как никогда, она как таковая (курсив Деррида) заполонила собою весь мировой горизонт самих различных исследований и самых разнородных (по цели, методу, идеологии) речей. Свидетельство этому – обесценение самого слова «язык», доверие к которому изобличает небрежность словаря, желание соблазнить подешевке, пассивное следование за модой, авангардистское сознание, за которым скрывается невежество. Эта инфляция знака «язык» есть инфляция знака как такового, инфляция как таковая, абсолютная инфляция» [5, c. 119]. Здесь кавычки клеймят семантическое банкротство слова «язык», служащее основанием для Деррида предлагать замену - слово письмо, унаследовавшее, согласно деконструктору, наконец-то все то, что изначально ему принадлежало, вследствие чего «письмо переполняет язык и выходит за его рамки» [5, c. 120]. А, значит, и само оказывается закавыченным («écriture» [28, p. 16]). Нанберг пишет об этом, как об озарении: «неожиданно обнаружилось, что письмо – просто язык» [25, p. 3]. Деррида действовал, как строгий переоценщик, точь-в-точь, как он характеризовал самого Руссо [5, c. 401]. Он предчувствовал масштабные изменения в культуре, поэтому начал подготовку к грядущей эпохе с ревизии актуального словаря, в котором место интонации, по «завещанию» Руссо, он отводит артикуляции как практике нового способа чтения.
Руссо критикует «несовершенство» [5, c. 400] пунктуации из-за недостатка знаков звательности и иронии[7], как запоздалое и несовершенное изобретение[8], «зло» которого – в олицетворении артикуляционного наступления на интонацию[9], в котором, согласно текстам Руссо, Деррида различает три уровня артикуляции или «наращивания артикулированности» [1, c. 25]: двойная артикуляция Мартинэ [5, c. 401] с учетом пунктуации превращается в тройную артикуляцию:
- расчленение на слова (угадывается уже в логографии);
- алфавит (расчленение на звуки в фонетическом письме);
- пунктуация.
Если мы обратимся к истории письменности, то обнаружим, что синтетическая по сути пиктография не требовала пунктуации. Аналитическая логография, нуждаясь в некоторой «разметке», практически ее не знала. Однако если «расчленение языка на слова… уже вычеркивает из него энергию интонаций» [5, c. 399], то «энергетический кризис» интонации спровоцирован не пунктуационными знаками (3), а еще логографией (1). А лого(фоно)центризм обанкротился из-за того, что наличие артикуляций больше не подкреплялось «активом» интонационых запасов, доверенных письму. При сравнении «уровней артикулированности» обсуждаемых здесь текстов Руссо и Деррида, как образцов двух разных епох (логофоноцентризма и грядущей граматологии), проверим, работает ли прогноз Руссо о наращивании артикуляций в тексте деконструктора.
В обоих текстах (Руссо и Деррида) мы найдем более разнообразный перечень артикуляционных уровней: сложившихся языкологично и текстологично. Языкологические уровни являются общими для текстов Руссо и Деррида: 4) позиционная иерархия букв (сначала все буквы были ПРОПИСНЫЕ), буквы строчного письма появились позже; 5) пробелы между словами (изобретение скорописи), 6) редуцированные гласные: «исчезающие интонации и выравнивающаяся длительность гласных восполняется новыми грамматическими сочетаниями и расчленениями» [15, c. 93], редукция гласных звуков стимулировала «агрессию» согласных в «разъедании напевности»; 7) абзацы (ряды, страницы с определенными верхним-нижним-правым-левым полями); 8) разделы; 9) примечания; 10) цитаты; 11) вставные конструкции (слова и предложения).
Текстологические уровни артикуляции отличают письмо Руссо от письма Деррида. Так, в «Опыте», кроме названного, артикулируется 12) прямая речь [15, c. 120, 124, 130, 131] в главах о музыке. А Деррида структурирует свой текст не просто разделами (как Руссо, у которого их 20), а еще у него есть: вступление (общее и к обоим частям), части (две), главы (три + четыре), разделы ( три-три-три + два-три-три-пять) и подразделы (три раздела третьей главы второй части содержат три-три-пять подразделов. То есть более дифференцирован языкологический уровень № 8 (разделы), а относительно № 10 (цитаты) следует добавить, что большинство цитат у Деррида выделяется абзацем и другим размером шрифта. Кроме того, на текстологическом уровне у него часто артикулируются 12) эпиграфы (за исключением третьей и четвертой глав); 13) курсивные вмешательства в цитированый и собственный текст, на которых мы сейчас остановимся детальнее; 14) кавычки, о которых уже говорилось выше. Значит, Деррида превосходит Руссо в «членораздельности», чем подтверждает тезис Руссо о «наращивании артикуляции».
Так, показательным является и курсивное вмешательство Деррида в текст Руссо: деконструктор еще на один шаг подходит к той грани, которую пытается прочертить Руссо между интонацией и артикуляцией, настаивая на их «полярной» противоположности. Это очередной «обходной маневр».
Интонация попадает в «эпицентр» деконструктивистского внимания со страницы 362 «О грамматологии». И уже на 365 странице Деррида вмешивается в автономность читательского интонирования: «выделенные курсивом места должны определенным образом подспудно направлять чтение этого текста и других подобных текстов» [5, с. 365]. Эта интервенция в рамках деконструкции не является легитимной: автор тут не имеет права «командного» голоса, права управлять будущим (иным!) прочтением, даже если он провозглашает якобы не собственную волю, а требование текста. И как раз в этом месте нам бы хотелось вернуться к упомянутому Деррида факту из эпиграфа к этой статье о том, что знаки препинания изобрели переписчики. «Авторский» текст, если вдуматься, неоднократно переживает инородные вторжения. Точки, запятые, тире и прочие «нефонетические знаки» прошли свой эволюционный путь и обзавелись собственной генеалогией.
Итак, «авторство» собственно текста и «авторство» его пунктуации не тождественны. Возникает вопрос: не этот ли момент считается началом «вторжения» читателя в авторский текст? «Идиллическое» сосуществование письма и интонации было нарушено вмешательством в авторский текст чужого своеволия (так, знаки пунктуации уподобляются «насилию, хитрости, вероломству и угнетению» [5, c. 255]) как своеобразные следы «пыток»-пункций на «теле» письма. С другой стороны, приписываемая пунктуационным знакам «вина» частично оправдывается их «заслугой» в выявлении интонации в письме: пунктуация визуализирует след интонации, позволяет ее «заметить». Таким образом, введение пунктуационных знаков в фонетическое письмо возымело особенный «эффект». А через «Грамматологию» оно подпитывает резонанс с «интонационным делом»: пунктуационным знакам приписывается «причастность» к интонационному «застыванию». Возникает вопрос: за что отвечает пунктуация в ситуации письменного «охлаждения» [5, c. 496] интонации? Надеемся, что ответ на этот вопрос нам приоткроется после беглого ознакомления с историей пунктуации.
Пунктуaction
Уже к началу ХVI века в европейской литературе существовала так называемая риторическая система пунктуации (elocutionarysystemofpunctuation), основной целью восприятия которой было показать читателю, как слово должно произноситься в устной речи.
Энциклопедия Britannica
В современном русском (и латинском) письме функционируют 10 пунктуационных знаков. Презумпция их «виновности» - двойное «распятие» - предполагает, что они намертво «пригвоздили» живую плоть (интонации). Функциональная и графическая инаковость этих знаков выделяет их среди прочих. Но, как доказал Россман, их функция не исчерпывается (коммуникативно- и конструктивно-) синтаксическим (рас)«членением» речи. К общеизвестным точке (.), запятой (,), двоеточию (:), точке с запятой (;), тире (-), скобкам (()), кавычкам («»), восклицательному знаку (!), вопросительному знаку (?), многоточию (...) также принадлежат функционально особенные пробелы и абзацы (заглавная буква в начале предложения также функционирует как пунктуационный знак). Современные исследования свидетельствуют, что в целом пунктуация облегчает чтение [26], помогая читателю сориентироваться в тексте.
Начнем с небольшого исторического экскурса: что произошло с письмом в «фатальный» для интонации момент введения пунктуации, тем более что первые тексты ее не знали? Это время предваряет применение «техник регуляции дыхания» при многоразовом прочтении (матричного) текста. Деррида, например, упоминает о «пневматологии» [5, c. 132] (а Руссо, переживающий об угасании страстности письма, ближе к «кардиографии»). Но общим для обоих случаев (дыхание и сердцебиение) есть наличие определенной ритмики и определенной техники чтения. Способ чтения в культуре решает больше, чем может показаться на первый взгляд.
Традицию применения «регуляции дыхания» при чтении в славянском письме унаследовали от Византии, откуда позднее прибыл и обычай употребления знаков препинания. Экспансия визуализации через пунктуацию вытесняет исихастские практики, ориентированные на слух. Можем предположить, что одним из оснований для введения и развития пунктуации могла быть интенсификация: стремление к минимизации количества прочтений для достаточно глубокого понимания (чтобы освободить время для чтения других книг и повышения эрудиции).
Сперва в алфавитном письме не обозначались границы слов (не было пробелов). Такой текст сосредоточенно читали множество раз (вслух!), согласно предписанному традицией ритму дыхания. Ряды и столбцы текста размечались этим ритмом [16, c. 75]. Многоразовость прочтения одного и того же текста (как, например, молитвы или поэзии) способствует, как считают специалисты, его де-прагматизации: освобождают разум «от навязанных ему социумом прагматических рамок» [11, c. 46] и стимулирует внутреннюю речь (по Ю. Лотману, только повторное чтение инициирует внутреннюю речь). А значит читатель вовлекается в со-участие и одновременно попадает в поле действия манипуляции. Так текст воспринимается иначе. И, что важно, цель этого способа чтения – уклониться от рацио. Если культура – иерархия сложного переплетения текстов, то в каждом конкретном случае даже первое чтение определенного текста частично уже является перечитыванием. Но вернемся к исихастам.
В XI в. теоретическому обоснованиию и детальному описанию подверглась практикуемая ими регуляция дыхания (для воспарения духа). Это способ «переживающего» прочтения: «достаточно было подложить под матрицу древние дыхательные приемы», как рекомендовал Симеон Новый Богослов [16, c. 65]. Что важно: книга сосредоточенно многократно читалась вслух, чтобы, «насытив слух» (а не ум!), слиться душой с возвышенным предметом и вжиться в содержание. И, значит, при первом (тем более единственном) чтении итонация «не успевала» проявиться полностью. Но цель их чтения не интонация и не артикуляция. Они стремились заглушить голос разума: «исихасты боролись с теологическим рационализмом» и стремились «отказаться от познания объективного мира», чтобы «погрузиться во тьму субъективного неведения» [18, c. 474]. Значит, текст для них был своеобразной «дверью», ведущей в иной мир, а выработанная техника чтения – путем, ведущим к единению с богом. Гравитация пунктуации вряд ли могла бы им помочь.
Такой подход к чтению годился тогда, когда доступных текстов было не так много. Книгопечатание кардинально изменило ситуацию. Время «свидания» с одной книгой урезалось в пользу возможности прочесть много других источников. Когда книг становится так много, как теперь, они почти не перечитываются. Если предположить, что в течение единственного сеанса происходит только «зарождение» интонации, то она не успеет «родиться», если текст не перечитают (застрянет на стадии «черновой разметки» интонем).
Первые пунктуационные пробы (финикийская, греческая, латинская буквенно-звуковые системы) были бессистемные: произвольно ставили между некоторыми словами либо черточки, либо точки. Но обращались они уже к глазу[10], а не к уху. Эта традиция сохранилась в средневековом латинском и славянском письме. С ускорением времени эволюционировал и почерк: в скорописи буквы стали писать вместе и появилась возможность пробелами разграничивать слова. Нововведение распространилось как допустимое, а вскоре – и как обязательное: подпало под регламентацию. Таким образом, фонетическое письмо «разбавилось» нефонетическими знаками, тем самым объединив буквенно-звуковой принцип с логографическим [6, c. 523]. Период «чистоты» фонетического письма, если грезить вместе с Руссо, должен был совпадать с временем «живой» интонации текста, но так ли это было на самом деле?
«Нефонетический» пробел – знак отсутствия или, согласно Кондратову, «нулевая буква» [8, c. 102] действует предельно рас-членяюще, даже если он «буква», а не пунктуационный знак. Этот своеобразный не-знак не попал в поле зрения автора «О грамматологии», хотя, по убеждению А. Белого, паузы за пробелами – «основной фактор во внутренней интонации»: они таят в себе «потенциальную энергию пред-удара, определяющего силу удара, следующего за ним» [2, c. 42]. Условно относимый к пунктуации и к буквам, пробел нельзя игнорировать, поскольку, кроме его способности прикрывать отсутствие, он еще и утаивает чрезмерное наличие, то есть обладает потенциальной силой детонации.
Самый древний знак препинания (до пробелов) – точка – известна со времен античности, когда ораторам понадобилось размечать, кроме границ слов, паузы разной длины (короткие, средние, длинные). И славянскому письму ХI-XIV вв. была свойственна произвольная «одноточечная пунктуация» [12, с. 16], заимствованная из Византии. Точку использовали в разных комбинациях (от одной до четырех) для обозначения границ слов или пауз, иногда заменяя ее крестом («благословенная» метка вынужденных пустот). В «Остромировом Евангелии» крест как межфразовый знак противопоставлен точке и змейке как внутрифразовым знакам [12, с. 16]. Примерно в ХII в. точка получила современное значение. А уже в ХХ в. «Черный квадрат» Малевича выдвинул точку в ранг «философского текста» [14, c. 72] как символ абсолютного начала и абсолютного конца.
Запятые, точки с запятыми и двоеточия в западноевропейском письме появились в VIII – XI в. (каролингский период) и поначалу употреблялись так же произвольно (верх своеволия переписчиков). В славянском письме нужда в других знаках препинания (запятые для коротких пауз, точки с запятыми – для вопросов) возникла после усложнения письменной речи и развития богословской стилистики (влияние западноевропейской практики).
Семиотический раздел между письменной и устной речью произошел, по Е. Матевосян, между XII – XIV вв. [9, c. 94], когда знаки препинания уже активно употреблялись. Важно предположение автора о синхронности (с этим разделом) возникновения так называемых «рабочих рукописей», «скрывающих голос», но обнаруживающих «болеевыразительные следы деятельности мысли...» и, что не менее важно, «которые часто сохраняют «внутренний голос», «немое чтение» [9, c. 94]. Суть способности скрывать проявляется именно как способность сохранять, в чем угадывается этимологическая близость слов «беречь-хранить»: функция припрятывания изначально фундирована необходимостью беречь нечто важное.
Пунктуационное вторжение переписчиков в письмо было унаследовано монополизацией и унификацией письма, нацеленного на тиражирование. Книгопечать предельно заострила потребность в унификации знаков пунктуации, которую в конце XV века осуществил венецианский книгопечатник Альд Мануций, используя уже применявшиеся знаки и добавив свои. Учрежденные им правила употребления пунктуации в основном сохранились до сегодня. Таким образом, законодателем пунктуационного «кодекса» стал книгопечатник (что очень символично) - человек, «позволяющий» сбываться чужим книгам. С тех времен, как книги печатаются, письмо прикрылось маской безликого шрифта. Письмо – это «слоеный пирог» - палимпсест, где потенциально может «заговорить» (в своем тоне) каждый «слой». В славянское письмо однообразие применения пунктуации также пришло с книгопечатью с середины XVI века. До того предложения членились только на коммуникативно-синтаксические компоненты [12, с. 17]: тему и рему, синтагмы внутри темы или ремы.
Мы можем констатировать, что знаки препинания основательно «прижились» в письме. Попытки «отказа» от них (в «литературе потока сознания... мы находим целое освободительное движение за полную и безоговорочную эмансипациюсознания и письма от всякой пунктуации» [14, c. 68]), кажется, только упрочили их положение. Пунктуация признается под-властной сознанию и, значит, «логоцентричной». Когда Деррида выносит «обвинительный приговор» знакам препинания, он должен был бы, согласно Россману, примкнуть к аналитической традиции, вдохновленной «культом понятности» которая старается «смирить эмоции» и предложить языку «синтаксическую аскезу» [14, c. 69]. Однако его пунктуация больше соответствует континентальным привычкам: «мы имеем континентальную традицию, в которой знаки пунктуации изобильны, капризны и многофункциональны» [14, c. 69]. Мысль в духе Руссо о том, что первичное употребление знаков пунктуации явилось следствием потребности, а не желания (и потому они замещают интонацию артикуляцией в письме), в данном контексте помагает выявить новые смысловые нюансы. Расценим практику пунктуaction как средство удовлетворения потребности приглушать (укрощать) желания. Тогда представляется несомненным, что с развитием знаков препинания должна расти их чрезвычайная способность уживаться с желаниями, а не только потребностями. Причины этой способности понятны, ибо авторство знаков пунктуации признано за переписчиками, которые, как известно, были монахами. Новая потребность – раскрепостить желания – могла быть резонансным следствием потери монастырями монопольного права на письмо (и знание). Секуляризация письма, наверное, должна была вернуть ему интонационную полноту, но чуда не случилось ни в аналитической философии, практикующей пунктуационную аскезу, ни в континентальной философии, шикующей несдержанной практикой пункуaction.
Таким образом, знаки препинания первично были «чужеродны» тексту, как «преломляющие» (расчленяющие) его изнутри. Но в свое время «чужеродными» были и сами тексты. Ранее создание текста и его «препарация» пунктуацией были действиями, разделенными временем и действующим лицом. Теперь текст изначально «препарируется» лицом, его создающим, с той разницей, что довершение этой акции поручается третьим лицам – корректору и редактору. Пунктуация настолько органично срослась с текстом, что, как утверждают психологи, даже в немом чтении она помогает обнаружить скрытую просодию [23]. Таким образом, то, что раньше представлялось бы компрометирующей авантюрой для автора, теперь воспринимается как норма. Деррида красноречиво убеждает нас, что для Руссо естественная «история письма есть история артикуляции, членоразделения» [5, с. 454]. Следовательно, пунктуация – необходимая стадия на пути становлення письменного разума.
В современном письме пунктуация не всегда выступает в «своем обличье». Так, например, К. Дозен предлагает читать логические константы как пунктуационные знаки [22]. Е. Ищук пишет о вербализации пунктуационных знаков в речи [7] как приеме экспрессивного высказывания, то есть наделенного «грузом» эмоций. А также здесь интересно вспомнить про «детонирующие запятые» [10, с. 421], роль которых, как считает М. Можейко, берут на себя инвективы в устной речи.
Таким образом, мы находим подтверждение диагностированной Руссо тенденции «наращивания артикулированности», частным проявлением которой есть пунктуация, распространившая свое влияние на устную речь. Интересно отметить, что «О грамматологии», в которой «Опыт…» Руссо деконструируется как «образец логоцентрического текста», сама оказывается «иллюстрацией» к «Опыту…»: текст Деррида превосходит текст Руссо по уровням артикулированности, чем подтверждает прогноз философа-энциклопедиста. Но и за рамками философского письма – в повседневной речи – проявляются симптомы общей тенденции. Но разве это значит, что интонация «охладела»?
Информация о конфликте интересов: авторы не имеют конфликта интересов для декларации.
Information of conflict of interests: authors have no conflicts of interests to declare.
[1] Нейрофизиологи считают, что человеческий мозг одинаково реагирует на просодию и пунктуацию [Steinhauer].
[2] Поэтому Деррида приходится дочитывать необходимый контекст из статьи «Переписчик», которую Руссо подготовил для «Музыкального словаря».
[3] В 1953 г., как бы в ответ на эти пожелания Руссо, во французском журнале «Chronique graphie», было предложено ввести специальные знаки препинания для обозначения не только иронии, но и гнева, колебания, симпатии / антипатии, сочувствия и т. д. На сегодняшний день самым богатым в обозначении эмоций является язык интернет-среды (неформального общения) с его экспрессивными эмотиконами, выражающих широкий спектр «ситуативных настроений».
[4] Этимологически слово «диакритический» восходит в древнегреческому «служащий для различения».
[5] Ш. Калверт пише: «‘образ’ мысли поддерживается и подкрепляется ‘образом’ пунктуации как не-семантическим, но богатым дескриптивным нотационным языком-в-себе» [20, c. 2].
[6] В оригинальном тексте «/'époque de Rousseau» употреблено без кавычек [28, p. 7] а в англоязычном переводе Гаятри Чакраворти Спивак и в русскоязычной версии Натальи Автономовой кавычки есть.
[7] Можем попутно заметить, что, например, в украинском языке есть звательный падеж, позволяющий легко от личить на письме точку «называния» от точки «подзывания».
[8] Chafe W. указывает на расхождения между пунктуацией и просодией [21].
[9] Т.Адорно высказывается в этом же ключе: «в каждом пунктуационном знаке, от которого предупредительно уклонились, письмо выказывает почтение к подавляемому им звуку» [19, 305].
[10] А. Кран, предлагая новую парадигму пункуации, предпочитает рассматривать «письмо как графическую систему, которая отражает канонические предложения, используя техники визуальных гештальтов» [24, c. 217].
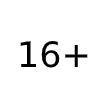


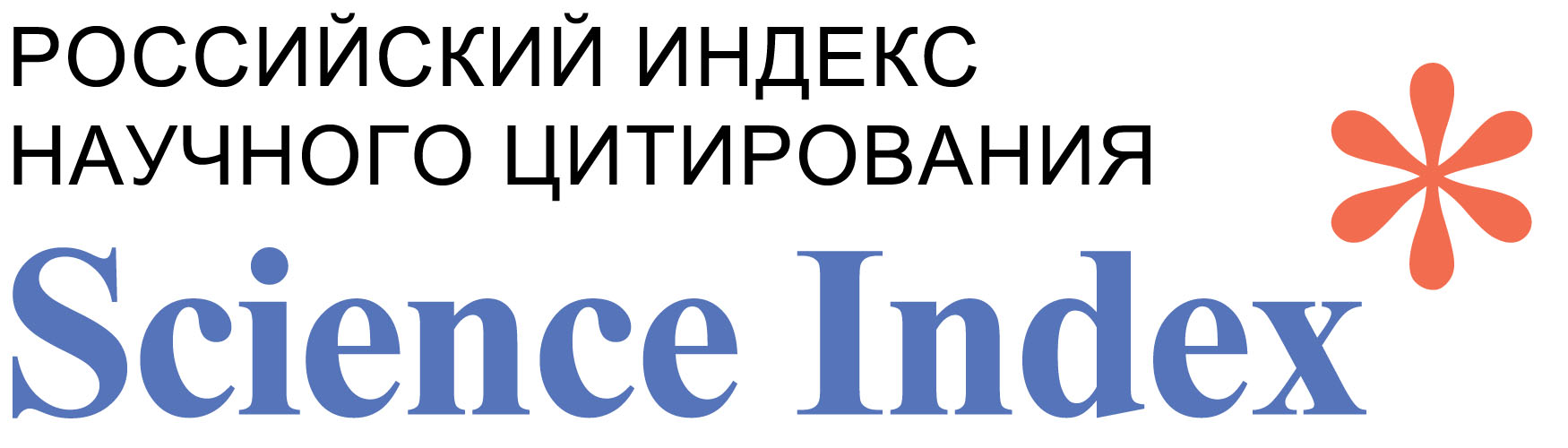




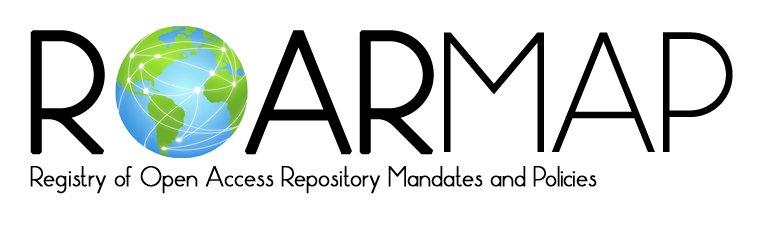

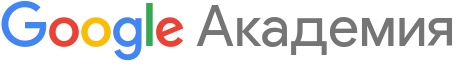


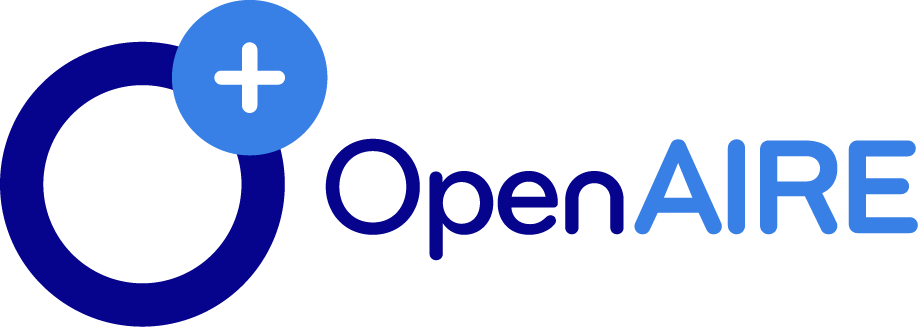




Список литературы