Интертекстуальность как дискурсивный феномен (от Горация до В. Сорокина)
Aннотация
В данной статье на материале дискурсивно взаимосвязанных текстов художественной литературы обосновывается статус интертекстуальности как феномена, обеспечивающего вхождение произведения в диахронический контекст и генерирующего диалогическое взаимодействие разновременных текстов: текста-источника и текста-реципиента. Интертекстуальность реализует смысловое приращение текста-реципиента посредством прецедентного включения. При этом прецедентность может присутствовать в тексте в виде культурного кода, шифра, будучи «упакованной» в традиционные языковые формы. Не вызывает сомнения, что писатели нередко намеренно заимствуют идеи, а порой и сюжеты, из произведений предшественников, народного творчества и т.п. Такое заимствование не означает «повторения», но служит трансляции того или иного культурного феномена и углублению смысла вновь созданного текста. Происходит семиотическое приращение дискурса. В результате читатель, обращаясь к вновь созданному тексту, ассоциативно «подключает» к нему информацию из «претекста» или «претекстов», углубляя содержание нового текста посредством собственных аллюзивных размышлений, связанных с прототипическим текстом идей, смыслов, что имеет определяющее значение для интерпретации произведения. Поскольку в результате читатели черпают информацию из других текстов, «просеивая» новый текст через свои ментальные «архивы», новый текст усложняется, приобретая качества дискурса, но его понимание при этом становится более глубоким и ясным. Таким образом, для авторов интертекстуальность открывает новые перспективы и возможности для построения своих оригинальных «историй». Однако здесь выступает на первый план субъективный фактор – подготовленность самого читателя к процессу декодирования, глубина его литературных и общекультурных познаний. И именно в этом семиотическом пространстве может разворачиваться наиболее интересный и плодотворный диалог автора с читателем. Таким образом, текст-реципиент может быть осмыслен как некий код по отношению к тексту-источнику, требующий для адекватного осмысления такого кодирующего текста осуществления операции «дешифровки», что предполагает знание диалогического контекста, обеспечивающего возможность установления связи с прецедентным источником. В этой связи не будет преувеличением признание всех современных литературных текстов интертекстуальными, причем намеренно интертекстуальными.
Ключевые слова: интертекстуальность, прецедентность, дискурс, язык, культурный код, претекст, текст-реципиент
Введение
Содержание термина «интертекстуальность», введенного еще в 1967 году ученицей Р. Барта в ходе разработки теоретических основ французского постструктурализма и постмодернизма Юлией Стояновой Кристевой, базируется на идее М.М. Бахтина о «диалоге между текстами». Ю. Кристева впервые поставила вопрос о литературной практике как о специфическом способе означивания.
Как отмечал Р. Барт, в тексте реализуется особая цель писателя – сделать читателя не потребителем, а производителем текста. Чтение текста, таким образом, представляет собой активный, а не пассивный способ взаимодействия читателя с текстом и культурой. В результате чтение становится «не паразитическим актом, реактивным дополнением письма», а «формой работы» (Barthes, 1974). Продолжая эту мысль, Р.Барт утверждает: «We know now that a text is not a line of words releasing a single «theological» meaning <…> but a multidimensional space in which a variety of writings, none of them original, blend and clash. The text is a tissue of quotations drawn from the innumerable centers of culture...» (Barthe 1977: 46).
Согласно теории Р.-А. де Богранда и В. Дресслера, изложенной в книге «Introduction to text linguistics», интертекустальность является одним из семи «критериев текстуальности», наряду с когезией, когерентностью, интенциональностью, воспринимаемостью, информативностью и ситуативностью (Beaugrande R.-A. de, Dressier W. 1981).
Как указывают Tzina Kalogirou и Vasso Economopoulou интертекстуальность – это не только всепроникающий термин в современной литературной критике, но и значимый элемент в практической работе учителя: «Intertextuality is not only a ubiquitous term in contemporary literary criticism; it is also a crucial element in our attempt as teachers to enhance our student’s responding to literature as well as their critical skills in reading and interpreting certain literary works. In the present paper we illustrate ways in which students can effectively read literary texts in parallel, compare them on the basis of its intertextual links and connections. We are going to limit ourselves to some illustrative cases of intertextuality available for students in a secondary classroom. By doing this kind of text-to text reading, students develop a fuller and more articulate awareness of literature and they can also expand their literary uptake through detailed critical analysis» (Kalogirou and Economopoulou 2012: 180).
При этом интертекстуальность остаётся дискуссионным термином, который по-разному трактуется исследователями: как соотнесенность конкретного текста с тем или иным типом текста (жанром и т.п.) или как соотнесенность с другим ранее созданным текстом или текстами.
Теоретический обзор
В данной работе интертекстуальность трактуется как результат соотнесенности данного конкретного текста с другими, более ранними и выступающими по отношению к данному тексту как прецедентные. Интетекстуальность обеспечивает вхождение произведения в диахронический контекст, генерируя диалогическое взаимодействие отдельных текстов: текста-источника («претекста») и текста-реципиента – и реализуя смысловое приращение текста-реципиента посредством прецедентного включения.
Чтобы объяснить формирование текстовых связей, Е. Вентола предложила концепцию «семиотического охвата» («semiotic spanning») (Ventola 1999: 101-109). Думается, что данное терминологическое сочетание может найти успешное применение в теории интертекстуальности, поскольку интертекстуальность предполагает расширение такого «семиотического охвата» посредством инклюзивности.
Чаще всего интертекстуальность понимается как зависимость смысла дискурса от ранее созданного текста (Allen 2000: 2) (в нашей работе мы называем его «претекстом», или «прототипическим текстом», по отношению к тексту-реципиенту). Как полагает Дж. Аллен (2000: 44), дискурс вбирает в себя исторические и социокультурные факторы, а язык репрезентирует их, объединяя контекст и предыдущие тексты культуры. Развивая данную мысль, ученый полагает: «The literary text is no longer viewed as a unique and autonomous entity but as the product of a host of pre-existent codes, discourses and previous texts. Every word in a text in this sense is intertextual and so must be read not only in terms of a meaning presumed to exist within the text itself, but also in terms of meaningful relations stretching far outside the text into a host of cultural discourses. Intertextuality, in this sense, questions our apparently commonsensical notions of what is inside and what outside the text, viewing meaning as something that can never be contained and constrained within the text itself. There is a mistaken tendency in readers of Kristeva to confuse intertextuality with more traditional, author-based concepts, particularly the concept of influence. Intertextuality is not, however, an intended reference by an author to another text: intertextuality is the very condition of signification, of meaning, in literary and indeed all language» (Allen 2003: 82).
Как правило, определения исследователей различаются в зависимости от того, какой аспект дискурса ставится во главу угла.
В то же время «интертекстуальность может быть рассмотрена как лингвистическая стратегия» (Savitri 2002: 37). В частности, заимствование слов из одного жанра в другой автор называет «встроенной интертекстуальностью» (Savitri 2002: 49), эмоционально нагруженные слова культуры, крылатые фразы, метафоры могут быть использованы для привлечения внимания людей (Там же). Добавим: не только для привлечения внимания, но и для установления ассоциативных связей. По мнению исследователя, интертекстуальность не только организует активные диалектические отношения с социумом, не только история дискурса проявляется в интертекстуальности, но сама интертекстуальность в этом конкретном контексте выступает как стратегия создания наиболее эффективного дискурса» (Savitri 2002: 54).
Не вызывает сомнения, что писатели нередко намеренно заимствуют идеи, а порой и сюжеты, из произведений предшественников, народного творчества и т.п. Такое заимствование не означает «повторения», но служит трансляции того или иного культурного феномена и углублению смысла вновь созданного текста. Происходит своего рода семиотическое приращение дискурса. В результате читатель, обращаясь к вновь созданному тексту, ассоциативно «подключает» к нему информацию из «претекста» или «претекстов», углубляя содержание нового текста посредством собственных аллюзивных размышлений, связанных с прототипическим текстом идей, смыслов, что имеет определяющее значение для интерпретации произведения.
Интертекстуальность является сложным и многоуровневым литературным термином, однако ее часто путают с термином «аллюзия». В то же время аллюзия – это отсылка; упоминание чего-либо, прямое или косвенное.
Поскольку в результате читатели черпают информацию из других текстов, «просеивая» новый текст через свои ментальные «архивы», новый текст усложняется, приобретая качества дискурса, но его понимание при этом становится более глубоким и ясным. Таким образом, для авторов интертекстуальность открывает новые перспективы и возможности для построения своих – оригинальных – «историй».
Научные результаты
Простейшей формой реализации интертекстуальности является цитация. Так, всякий научный текст с необходимостью включает элементы прямой или косвенной цитации. Что касается литературного текста, то здесь, как правило, имеет место «скрытая цитация» – как отсылка к тому или ному источнику. Прямую цитацию мы обнаруживаем чаще всего в эпиграфах или заголовках, например, эпиграфом к роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита» послужили слова Мефистофеля из произведения И. Гёте «Фауст». Данный эпиграф-цитата с первых строк включает булгаковский роман в литературный контекст, в пределах которого разворачивается вечный спор о борьбе добра и зла, Бога и дьявола не только в мире, но и в душе человека, в том числе – в душе человека-творца, художника в широком смысле слова.
В данном случае цитата из драмы И.Гёте выступает в качестве прецедентного текста, то есть текста, который «хорошо знаком любому среднему члену лингвокультурного сообщества, в когнитивную базу которого входит инвариант его восприятия, обращение к нему многократно возобновляется в процессе коммуникации через связанные с этим текстом высказывания или символы» (Гудков и др. 1997: 106).
Термин «прецедентный текст», введенный в 1986 г. в научный оборот Ю.Н. Карауловым (Караулов 1986: 215) в преломлении к теории и практике анализа языковой личности, изначально обозначил дискурсивный характер прецедентности и вторичность по отношению к известному инварианту, прототипу.
При этом феномен прецедентности охватывает единицы различного уровня и структуры. В частности, прецедентный элемент может представлять собой номинативную единицу как аллюзивную отсылку к прототипическому тексту, устойчивое выражение, сюжетную схему и т.д. (Фауст, Гамлет, Митрофанушка и т.п., «Свои люди – сочтемся», «Волки и овцы» и подоб.). Расшифровка, «декодировка» таких интертекстуальных феноменов возможна только при обращении к исходному тексту и/или – шире – к культурному контексту, знаки которого они включают.
Равным образом, в качестве прецедентных включений могут выступать заголовки. Так, заглавие стихотворения «Пророк» можно считать прецедентным именем, поскольку оно десятки раз используется различными авторами, начиная с А.С. Пушкина – и далее: М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, А. Белый, Н. Гумилёв (во мн. числе: «Пророки), Черубина де Габриак, К.Д. Бальмонт, Д.С. Мережковский («Пророк Иеремия»), С.Я. Надсон,В.С. Соловьёв («Пророк будущего»), вплоть до современных авторов: Г. Корин, Е. Винокуров, Дм. Быков. Безусловно, все послепушкинские тексты с таким заголовком могут быть рассмотрены как «участники диалога» с первоисточником, к которому авторы имплицитно отсылают в своих произведениях, раскрывающих ту же тему назначения и миссии поэта, человека-творца.
В ряде случаев и в самих текстах содержаться непосредственные прецедентные включения из пушкинского стихотворения, например: «Пророк! Твой путь не безобиден. / <…>Живет в пустыне. Мало ест» и т.д. (Дм. Быков «Пророк», 1988 г.); ср.: «В пустыне мрачной я влачился»; «Глаголом жги сердца людей». (А.С. Пушкин «Пророк», 1826 г.).
Целую серию «Памятников», как известно, открывает М.В. Ломоносов своим переводом из древнеримского поэта Горация, чьё стихотворение «К Мельпомене» начиналось со строк: «Я воздвиг памятник прочнее меди и выше царских пирамид…». М.В. Ломоносов осуществил перевод этого стихотворения, стремясь как можно более точно передать содержание оригинала: «Я знак бессмертия себе воздвигнул / Превыше пирамид и крепче меди,/ <…> Не вовсе я умру, но смерть оставит / Велику часть мою, как жизнь скончаю./Я буду возрастать повсюду славой, / Пока великий Рим владеет светом <…>» (М.В. Ломоносов, 1747 г.).
Следующим переложением становится стихотворение Г.Р. Державина, написанное им в 1975 году и уже получившее «Памятник». Г.Р. Державин отступает от оригинала, осуществляя перевод, скорее, «по мотивам», нежели стремясь к абсолютному тождеству текстов, и пишет о роде славян, которые будут чтить поэта: «<…> И слава возрастет моя, не увядая,/ Доколь славянов род вселенна будет чтить.// Слух пройдет обо мне от Белых вод до Черных,/ Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;/ Всяк будет помнить то в народах неисчетных, /Как из безвестности я тем известен стал...» ( Г.Р. Державин, 1836 г.).
Эстафету «памятников» подхватывает А.С. Пушкин: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный,/ К нему не зарастет народная тропа,/ Вознесся выше он главою непокорной / Александрийского столпа. // Нет, весь я не умру –/душа в заветной лире / Мой прах переживет и тленья убежит –/
И славен буду я, доколь в подлунном мире/ Жив будет хоть один пиит. <…>» (А.С. Пушкин, 1836 г.).
На примере этих текстов мы можем наблюдать интертекстуальность как процесс, цепную реакцию, причем прецедентным оказывается не только заглавие, но и вариативные и в то же время содержательно совпадающие отрезки текстов, что обусловлено единством прототипа.
Далее следуют «Памятники» А.А. Фета (1854 г.), В.Я. Брюсова (1912 г.): «Воздвиг я памятник вечнее меди прочной / И зданий царственных превыше пирамид; / <…> Нет, весь я не умру, и жизни лучшей долей / Избегну похорон, и славный мой венец / Все будет зеленеть, доколе в Капитолий /С безмолвной девою верховный ходит жрец. <…>» (А.А Фет, 1836 г.); «Мой памятник стоит, /из строф созвучных сложен.<…>// Я есмь и вечно должен быть./ И станов всех бойцы, / и люди разных вкусов, / В каморке бедняка, и во дворце царя,/Ликуя, назовут меня – Валерий Брюсов,/ О друге с дружбой говоря <…>» ( В.Я. Брюсов, 1912 г.).
При этом, если текст А.А. Фета «отсылает» нас к первоисточнику, то в стихотворении В.Я. Брюсова нам видится мультипрецедентность: здесь просматриваются ассоциативные отсылки не только к стихотворению Горация, но и к произведениям Г.Р. Державина и А.С. Пушкина, ср.: «И станов всех бойцы, и люди разных вкусов, / В каморке бедняка, и во дворце царя, / Ликуя, назовут меня… /<…> В сады Украины, в шум и яркий сон столицы, / К преддверьям Индии, на берег Иртыша, –/ Повсюду долетят горящие страницы…/ <…> И в новых звуках зов проникнет за пределы/ Печальной родины, и немец, и француз/ Покорно повторят мой стих осиротелый…»(В.Я. Брюсов).
Следовательно, можно утверждать, что интертекстуальность – это диахронический, прирастающий, приумножающий сам себя феномен.
При этом прецедентный текст может переживать значительные трансформации – и всё же он «угадывается», поддается дешифровке, например, в стихотворении И.А. Бродского 1962 года «Я памятник воздвиг себе иной!».
Еще далее от прототипа уходит В.С. Высоцкий: «Командора шаги злы и гулки. / Я решил: как во времени оном, / Не пройтись ли, по плитам звеня? / И шарахнулись толпы в проулки, / Когда вырвал я ногу со стоном
И осыпались камни с меня. / <…> И, когда уже грохнулся наземь, / Из разодранных рупоров всё же / Прохрипел я: «Похоже, живой!» /<…> И торчат мои острые скулы / Из металла! / <…> Я, напротив, ушёл всенародно /
Из гранита» (В.С. Высоцкий, «Памятник», 1978-1979 г.).
Тем не менее, и в двух последних текстах наличествует не просто ассоциативная, но интертекстуальная связь с произведениями предшественников (прежде всего Горация и А.С. Пушкина), которая реализуется не только посредством прецедентного заголовка (В. С. Высоцкий), но и содержательно: идея бессмертия поэта, творца перед лицом времени – и вербально: памятник, металл (ср.: прочнее меди), всенародно (ср.: народная тропа), Муза.
Отметим, что в стихотворении В.С. Высоцкого присутствует еще один прецедентный образ – Командор (шаги Командора) – герой пьесы А.С. Пушкина «Каменный гость» из цикла «Маленькие трагедии» (сам сюжет и образ каменного Командора А.С. Пушкин заимствует у западноевропейских авторов, среди которых Мольер, Гольдони и др. Полагают, что Пушкин задействовал элементы либретто Лоренцо да Понте к опере В. Моцарта «Дон Жуан», но в то же время написал своё – оригинальное – произведение).
Образ Командора косвенно, но – со своей стороны – удостоверяет установку В.С. Высоцкого на осознанную реализацию ассоциативной связи с пушкинским «Памятником».
Из всего этого вытекает еще одно свойство интертекста – способность к варьированию, но при сохранении онтологической связи – смысловой и вербальной – с прототипом.
И здесь следует разграничить истоки прецедентности (текст-источник) и мотивы прецедентности – транслируемую идею, которая заложена в прецедентном тексте.
Так, многократно тиражируемая, пусть и вариативно, ключевая константа «Памятников» и «Пророка» заключается в идее элитарности, исключительности, богоизбранности человека-творца его противопоставленности прочим людям, ср. в стихотворении А.С. Пушкина «Поэт и толпа» 1828 года, где контекстуальная антонимия прилагательных вдохновенный – хладный, надменный, непосвященный (вкупе с адъективным наречием бессмысленно) репрезентирует ментальную и духовную полярность гения и толпы.
Примечательно, что эпиграфом к этому стихотворению автор взял лат. выражение Procul este, profani – «Прочь, непосвященные». В этом выражении литературоведы видят цитату из Вергилия: «Прочь удалитесь, непосвященные» (Вергилий, «Энеида», VI, 255-61, 30-е года до н.э., начата в 29 г. д н.э.). Но следует заметить, что в 23 году до н.э., то есть практически в тот же период, друг Вергилия Гораций издает три книги своих «Од», в которые вошли и упомянутый «Памятник», и стихотворение, начинающееся словами «Odi profanum vulgus et arceo» («Я ненавижу невежественную (непосвященную) толпу»). В этих произведениях – мотиватором указанной прецедентности является идея противопоставленности поэта, антагонизма по отношению к нему, транслируемая от античности – и далее – художественной картиной мира в целом, ср. в стихотворении-пророчестве М. Цветаевой 1916 года: «Потянется, растерянно крестясь, / Паломничество по дорожке черной / К моей руке, которой не отдерну, / <…> По улицам оставленной Москвы / Поеду – я, и побредете – вы. / <…> И наконец-то будет разрешен / Себялюбивый, одинокий сон».
Как видим, интертекстуальность, как правило, предполагает заложенную автором когнитивную возможность для потенциального читателя установления (через аллюзию) ассоциативных связей прецедентного текста как инклюзивного элемента с его источником. Иными словами, для надёжности результата и уверенности автора в адекватном прочтении текста-реципиента закодированный и «упакованный в интертекстуальность» прецедент должен с достаточной очевидностью для читателя «указывать» на своё происхождение. Иначе факт прецедентности не будет обнаруживать себя.
В этом контексте прецедентный факт можно рассматривать как элемент «культурной памяти», и сама литература при таком подходе оказывается транслятором, носителем и – добавим – порождением такой «культурной памяти», поскольку предполагает некую эстетическую реакцию читателя как реципиента текста (См.: Iser 1978).
Исходя из этого, центральное место в прочтении каждого литературного произведения занимает взаимодействие его структуры и получателя. Следовательно, изучение литературного произведения должно касаться не только собственно текста, но и, в равной мере, действий, связанных с откликом на этот текст (Iser 1980: 106-119).
Мы солидарны с американским психологом Дж. Брунером, утверждающим, что нашу память о событиях жизни и наш жизненный опыт мы «организуем» в форме рассказа, или – нарратива – «narrative-stories» (Bruner 1994: 4-5). Исходя из этого, можно полагать, что интертекст, осуществляя межтекстовый диалог, включает в него личный субъективный опыт адресата (читателя), и здесь нельзя не согласиться с тезисом Жака Деррида о том, что «читатель пишет текст».
Однако, памятуя о том, что «повествовательное воображение не имеет границ» (Eco 1990: 4), можно предположить, что текст может всякий раз получать специфическую интерпретацию, отличную от заложенной в нем автором. В частности, как справедливо указывал У. Эко, «to interpret means to react to the text of the world or to the world of a text by producing other texts. <> The problem is not to challenge the old idea that the world is a text which can be interpreted, but rather todecide whether it has a fixed meaning, many possible meanings, or none at all» («толковать – значит реагировать на текст мира или на мир текста, создавая другие тексты. <…> Проблема не в том, чтобы бросить вызов старой идее о том, что мир – это текст, который можно интерпретировать, а скорее, в том, имеет ли он фиксированный смысл, много возможных значений или вообще нет») (Eco 1990: 29).
Исходя из этого, предполагается, что все, что мы можем вспомнить, соединяется с воспринимаемым текстом, создавая – говоря словами У. Эко – «паутину взаимных ссылок». В этом контексте интертекстуальность сопрягается с так называемой «теорией памяти» (Halbwachs 1980; Carruthers 2008; Rossington and Whitehead 2007).
Однако здесь выступает на первый план субъективный фактор – подготовленность самого читателя к процессу декодирования, глубина его литературных и общекультурных познаний. И именно в этом семиотическом пространстве может разворачиваться наиболее интересный и плодотворный диалог автора с читателем.
Так, например, имплицитная прецедентность нередко присутствует в произведениях В. Сорокина – эпатажного и намеренно эпатирующего писателя. Специфика авторского дискурса, на наш взгляд, заключается том, что писатель использует в качестве прецедентных не известные среднему носителю языка факты культурного и литературного характера, а потому его «диалог с читателем» рассчитан на подготовленного к такому диалогу адресата.
Продемонстрируем это на произведении малого жанра – новелле «Настя». По сюжету, героиню рассказа Настю, девушку, которой исполняется 16 лет, готовят к самому важному событию в её жизни. Накануне ожидаемого дня Настя получает подарки от родственников, в том числе черную жемчужину: «Черный жемчуг, maman. <…> Из-за моря-окияна, прямо с острова Буяна!» (В.Г. Сорокин «Настя»).
Включение в реплику героя известного фольклорного словосочетания с традиционными образами моря-океана, острова Буяна информативно и, как нам видится, должно подготовить читателя к восприятию последующих событий.
И вот жемчужина проглочена Настей, семья готова к церемонии. Буквальное восприятие описания этой церемонии может повергнуть читателя в состояние культурного шока: «Красно-каменный забор внутреннего двора, свежая побелка недавно сложенной большой русской печи, голый по пояс повар Савелий с длинной кочергой перед оранжевым печным жерлом, отец, мать, отец Андрей, Лев Ильич. <…> Жар справный, – выпрямился, отирая пот Савелий. – Во имя Вечного, – кивнул ему отец. Савелий положил на стол огромную железную лопату с болтающимися цепями: – Ложитесь, Настасья Сергевна. Настя неуверенно подошла к лопате. Отец и Савелий подхватили ее, положили спиной на лопату» (В.Г. Сорокин «Настя»).
В то же время описание этой страшной сцены рождает ассоциации с чем-то уже хорошо известным. А «ключом» к этому известному оказывается упомянутый выше фольклорный элемент. Лопата, печь, герой, которого туда отправляет мифологизированный предок (баба-яга) – всё это традиционные элементы русской волшебной сказки, в которой баба-яга пытается усадить героя (Иванушку и т.п.) на лопату и изжарить в печи.
Этот сказочный сюжет уходит корнями в глубокую мифологическую древность с её ритуалами и обрядами, в частности, с обрядом «опекания младенца», или «перепекания младенца (ребенка)».
«Пламя в системе мифологических воззрений устойчиво связывается с представлениями о душе, что репрезентируется, помимо прочего, обрядовой практикой: вероятно, обряд «опекания» младенца, в ходе которого новорожденного помещали в дышащую теплом печь, был связан с актом обретения новым человеком души. В системе мифологем домашний очаг рассматривался как место пребывания домового духа, духа умершего предка, а потому при переходе в новый дом непременно выбирали из очага тлеющие угли, дабы забрать с собой домового (отзвуки древнейшего похоронного обряда трупосожжения); и языковыми фактами, ср.: семантически почти тождественные душный и жаркий. Думается, что между осмыслением домашнего очага как локуса духа пращура и обрядом «опекания» младенца имеется причинно-следственная связь: душу человек получал от родовых предков» (См.: Кошарная 2002: 179-180).
При этом «опекание младенца» уподобляли выпечке хлеба, когда «мягкое», неоформленное тесто превращается в твердый, крепкий хлеб: «хотя происхождение этого и подобных сказочных эпизодов уже возводилось исследователями к архаическим ритуалам (инициация, похороны), никто, кажется, не обратил внимания на его близкое сходство с ритуалом «перепекания» ребенка, широко известным у восточных славян. В наиболее общем случае ритуал заключается в том, что грудного ребенка кладут на хлебную лопату и трижды всовывают в теплую печь. Обычно так поступали с младенцами, больными рахитом или атрофией а согласно народной терминологии <…> Ритуал осуществлялся иногда и при других болезнях <…> Более глубокий уровень определяется символическим отождествлением ребенка и хлеба, выпечки хлеба и появления ребенка на свет: его как бы возвращают в материнское чрево (печь), чтобы он родился заново» (Топорков 1992: 114-115).
Этот фольклорно-мифологический сюжет будет упомянут писателем и ближе к концу новеллы: «Ариша, ты готовишься? – спросила Румянцева <…>. – Надоело ждать, – отодвинула пустую тарелку Арина. – Всех подруг уж зажарили, а я все жду. Таню Бокшееву, Адель Нащекину, теперь вот Настеньку» (В.Сорокин «Настя»).
В то же время здесь просматривается связь с обрядом инициации. Так, сказочный герой, побывав в избушке бабы-яги, пройдя собственно инициацию, становится неуязвимым в фантастическом мире, в который он направляется. «С этой точки зрения крестьянские обряды, связанные с рождением и первыми годами жизни ребенка, представляют собой комплекс мероприятий, направленных на придание ему «человеческих» качеств («правильная» форма тела, способность видеть, слышать, говорить и т. п.). До совершения подобных ритуалов новорожденный воспринимается как существо, не принадлежащее к миру людей, или как «недоделанный», «неоформленный» человек» (Панченко 2004: 32).
Как отмечает А.Л. Топорков, «можно предположить, что печь символизировала не только чрево матери, но и загробный мир, отправление в печь – временную смерть; характерно, что в некоторых вариантах ритуала на ребенке разрывали рубашку, как на покойнике, и сжигали ее» (Топорков 1992: 116), ср. в новелле В.Г. Сорокина: «Няня раздевала Настю <…> Настя осталась стоять голой посреди двора» (В.Г. Сорокин «Настя»).
Таким образом, налицо совпадение сюжетов, вернее, намеренная реализация автором интертекстуальности, но при этом сюжет «прочитывается» не символически, не метафорически, а в буквальном смысле.
То же буквальное прочтение обнаруживается и в отношении устойчивых, традиционных, эпитетов и оборотов: новоиспеченная (Настя), ср. новоиспечённый, -ая, -ое (разг. шутл.). – ‘недавно сделанный (о продуктах печения не употр.!), недавно ставший кем-н.’. Н. проект. Н. студент (Ожегов 1991: 417); «прошу у вас руки вашей дочери», где буквально и страшно прочитана прототипическая ситуация «просить руки» – ‘делать предложение, предлагать руку и сердце, предлагать руку, свататься’.
Абсурдность описываемых ситуаций при их буквальном прочтении и намеренное обыгрывание писателем прецедентных включений являются доминантами индивидуально-авторской картины мира В.Г. Сорокина, играющего со своим читателем в своеобразную «игру» и предлагающего разгадать загадки его текстов, почерпнутые из традиционной культуры.
Так, в финале новеллы присутствует авторское описание отраженного в черной (!) жемчужине мира, которое напоминает известную детскую страшилку, в которой рефреном выступает прилагательное черный («В черной-черной комнате стоит черный-пречерный стол…»): «В жемчужине плыл отраженный мир: черное небо, черные облака, черное озеро, черные лодки, черный бор, черный можжевельник, черная отмель, черные мостки, черные ракиты, черный холм, черная церковь, черная тропинка, черный луг, черная аллея, черная усадьба, черный мужчина и черная женщина, открывающие черное окно в черной столовой» (В.Г. Сорокин «Настя»).
Таким образом, прилагательное-рефрен черный в новелле В.Сорокина также можно рассматривать как явление интертекстуальности.
Попутно заметим, что архетип черного человека – прецедентный образ русской литературы, по-видимому, также являющийся продолжением и развитием народной традиции. В частности, одним из зловещих персонажей поэзии и прозы Хармса оказывается «дворник с чёрными усами» (известно, что в дореволюционной России дворники нередко выполняли поручения полиции и присутствовали при обысках и арестах), ср. также персонажи поэмы С. Есенина «Черный человек» и стихотворения В. Высоцкого: «Мой черный человек в костюме сером».
Но вернемся к новелле В.Сорокина. Помимо фольклорного начала и заимствованных из народной традиции образов, которое «опрокинуты» в реальность в авторском дискурсе, здесь присутствуют и отсылки к литературному наследию: «<…> гимны элитарности! Вспомните Горация! «Я презираю темную толпу!»» (В.Г. Сорокин «Настя»). Вновь появляется знаковый для русской литературной традиции – прецедентный – образ Горация с его осознанием элитарной противопоставленности творца, гения, поэта, писателя прочим людям. Думается, эпатирующий публику В. Сорокин совсем е случайно вводит в текст это прецедентное имя, имплицитно нагружая текст и личностным смыслом.
В целом, контекстуальный лингвокультурологический анализ новеллы В. Сорокина позволяет утверждать, что прецедентность может присутствовать в тексте в виде некоего культурного кода, шифра, будучи «упакованной» в традиционные языковые формы, но с печатью ресемантизации.
Заключение
Таким образом, текст-реципиент может быть осмыслен как некий код по отношению к тексту-источнику, требующий для адекватного осмысления такого кодирующего текста осуществления операции «расшифровки», что предполагает знание диалогического контекста, обеспечивающего возможность установления связи с прецедентным источником. В этой связи не будет преувеличением, если мы признаем все современные литературные тексты интертекстуальными, причем намеренно интертекстуальными.
При этом обнаруживаются характерные черты интертекстуальности: реализация смыслового приращения текста-реципиента посредством прецедентного включения из прототипического текста или текстов (претекста), в резцльтате возникает общее семиотическое пространство «нового» и предшествующих текстов.
Интертекстуальность служит трансляции культурного феномена и углублению смысла вновь созданного текста.
Текст-реципиент может быть осмыслен как своеобразный код по отношению к тексту-источнику, требующий для адекватного осмысления такого кодирующего текста осуществления операции «дешифровки».
Читатель, обращаясь к вновь созданному тексту, ассоциативно «подключает» к нему информацию из «претекста» или «претекстов», углубляя содержание нового текста посредством собственных аллюзивных размышлений и т.п. При этом на первый план субъективный фактор – подготовленность самого читателя к процессу декодирования.
Простейшей формой реализации интертекстуальности является цитация (прямая или скрытая), что обнаруживается, в частности, в текстах русской поэзии, на примере которых мы наблюдаем интертекстуальность как диахронический процесс.
При этом феномен прецедентности охватывает единицы различного уровня и структуры. Так, в качестве прецедентных включений могут выступать заголовки. При этом следует разграничить истоки прецедентности (текст-источник) и мотивы прецедентности – транслируемую идею, которая заложена в прецедентном тексте.
В контексте интертекстуальности возможно говорить о мультипрецедентности, при которой присутствуют аллюзивные отсылки к нескольким источникам.
Интертекстуальность предполагает заложенную автором когнитивную возможность для потенциального читателя установления (через аллюзию) ассоциативных связей прецедентного текста как инклюзивного элемента с его источником, где прецедентный факт можно рассматривать как элемент «культурной памяти», и сама литература при таком подходе оказывается транслятором, носителем и – добавим – порождением такой «культурной памяти».
Следовательно, можно утверждать, что интертекстуальность – это диахронический, прирастающий, приумножающий сам себя, дискурсивный феномен.
Конфликты интересов: у авторов нет конфликта интересов для декларации.
Conflicts of Interest: the authors have no conflict of interest to declare.
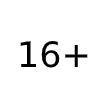


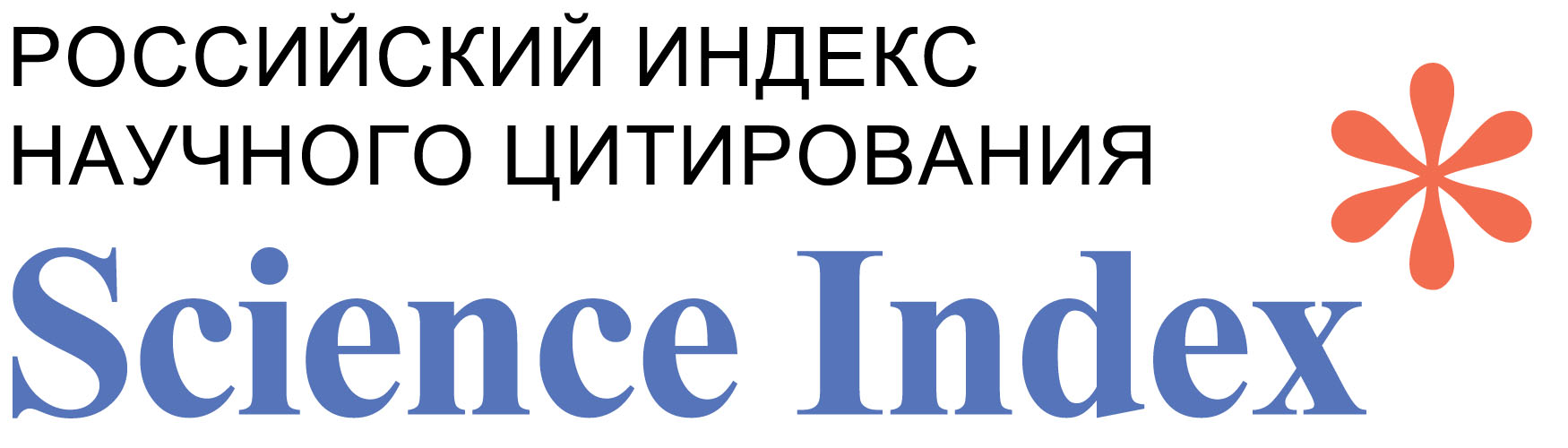




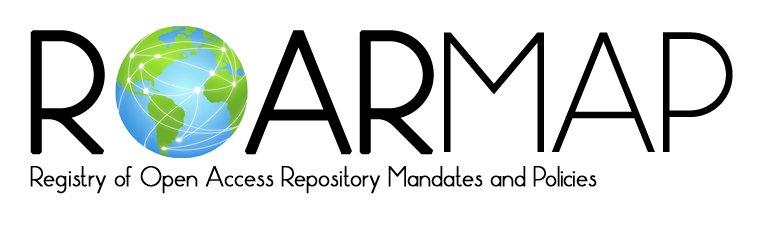

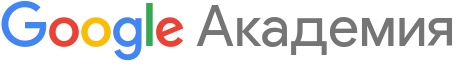


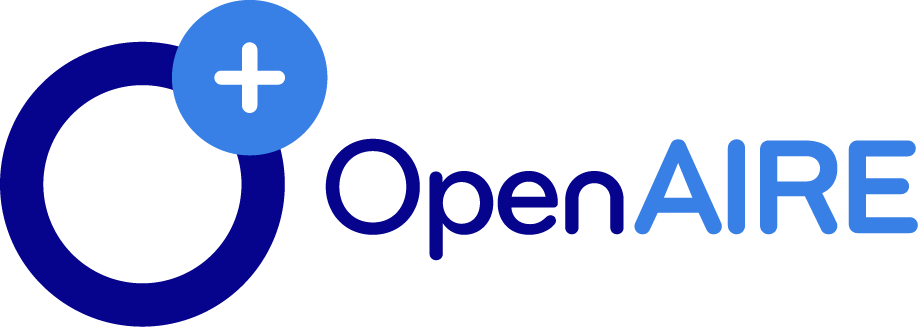




Список литературы
Гудков Д.Б., Красных В.В. и др. Некоторые особенности функционирования прецедентных высказываний / Д.Б. Гудков, В.В. Красных, И.В. Захаренко, Д.В. Багаева // Вестник Московского университета. Сер.9. Филология. 1997. № 4. С. 106-118.
Караулов Ю.Н. Роль прецедентного текста в структуре и функционировании языковой личности // Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы. М.: Русский язык, 1986. С. 105-123.
Кошарная С.А. Миф и язык: Опыт лингвокультурологической реконструкции русской мифологической картины мира. Белгород: Изд-во Белгородского госуниверситета, 2002. 287 с.
Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 23-е изд., испр. М. : Рус. яз., 1991. 917 с.
Панченко А.А. Отношение к детям в русской традиционной культуре // Отечественные записки. 2004. №3. С. 31-39.
Сорокин В.Г. Пир. М.: Ad Marginem, 2001. 382 с.
Топорков А.Л. Перепекание детей в ритуалах и сказках восточных славян // Фольклор и этнографическая действительность. СПб., 1992. С. 114-118.
Allen G. Intertextuality. London & New York: Routledge, 2000. 238 p.
Allen, G. Roland Barthes. London: Routledge, 2003. 163 p.
Barthes R. The pleasure of the text. Translated by Richard Miller. With a Note on the Text by Richard Howard. New York: Hill and Wang, 1974. P.5-67.
Barthes R. Image. Music. Text. London: Fontana Press, 1977. 217 p.
Beaugrande R.-A. de, Dressier W. Introduction to text linguistics. XVI. London & New York: Longman, 1981. 270 p.
Bloom H. The Anxiety of Influence: A theory of poetry. 2-nd Ed. New York & Oxford: Oxford University Press, 1997. 157 p.
Bruner J. The Narrative Construction of Reality // Critical Inquiry. 1994. Vol. 18, No. 1. P.1-21.
Carruthers Mary J. The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2008. 519 p.
Eco U. The Limits of Interpretation. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1990. 295 p.
Halbwachs M. The collective memory. New York: Harper & Row Colophon Books, 1980. 182 p.
Iser W. Interaction between Text and Reader // The Reader in the Text. Princeton, New York: Princeton University Press, 1980. P. 106-119.
Iser W. The Act of Reading : A theory of esthetic response. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978. 239 p.
Kalogirou Tz. & Economopoulou V. Building bridges between texts: From Intertextuality to intertextual reading and learning / Theoretical challenges and classroom resources // Investigação e Ensino: Número temático (Dezembro), Portugal, 2012. P.180-187.
Kristeva J. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. New York : Columbia University Press, 1980. 319 p.
Rossington M. & Whitehead A. Theories of Memories. A Reader. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. 328 p.
Savitri G. Intertextuality as Discourse Strategy: The Case of No-Confidence Debates in Thailand / Nelson D. (ed.) // Working Papers in Linguistics and Phonetics, 9. 2002. Р. 35-55.
Ventola E. Semiotic spanning at conferences: Cohesion and coherence in and across conference papers and their discussions // Coherence in Spoken and Written Discourse / Ed. by W. Bublitz, U. Lenk, E. Ventola. Amsterdam: Benjamins, 1999. P.101-123.