Академик В. М. Алпатов и его лингвистические взгляды в контексте научных поисков и открытий XX-XXI вв.
Aннотация
Лингвистический обзор посвящен анализу научных идей крупнейшего отечественного типолога, востоковеда, теоретика и историка языкознания академика РАН В. М. Алпатова в контексте поисков и открытий XX-XXI вв. Подчеркивается, что ученый создал новаторские, концептуально и методологически фундаментальные труды, которые вносят существенный вклад в энциклопедию лингвистики. Они осваивают спорные, недостаточно изученные проблемы компаративистики, японского языкознания, теоретической и прикладной лингвистики, социолингвистики, историографии языкознания. Цель работы – на примере достижений ученого в разных отраслях лингвистики обосновать преемственность и показать развитие научных школ мирового и отечественного языкознания и их открытия в эпоху XX-XXI вв. Актуальность статьи заключается в необходимости критической оценки и обобщения лингвистического опыта с позиции современных мультидисциплинарных подходов к анализу языковых явлений и экстралингвистических процессов. Констатируется, что В. М. Алпатов внес большой вклад в формирование современного облика науки. Он расширил лингвистическое поле исследований от сравнительной типологии восточных языков до изучения актуальных социолингвистических процессов. Обсуждаются идеи ученого в области теоретического языкознания и лингвистической прогностики. Особое внимание уделено открытиям В. М. Алпатова в истории языкознания – фактам публикации и введения в научный оборот ценных источников, относящихся к периоду марризма, воскрешению забытых имен востоковедов, славистов, компаративистов. Утверждается, что изданные ученым исследования значительно обогатили инструментарий лингвистики новыми подходами и решениями. В заключение статьи подводятся итоги, говорится о неординарной языковой личности В. М. Алпатова, создавшего свою лингвистическую школу.
Ключевые слова: Лингвоперсонология, Лингвистическая школа, Типологическое языкознание, Компаративистика, Японистика, Социолингвистика, Теория языка, Историография лингвистики, Лингвистическая прогностика
1. Введение
Живые лингвистические идеи и открытия всегда являются предметом обсуждения. В дискуссионности рождаются новые подходы и направления, критически осмысляется пройденный путь, намечаются перспективы развития языковедческой традиции, которая в XX-XXI вв. претерпевала значительные перемены: от свержения сравнительно-исторического языкознания (Фортунатовской школы) и установления марризма как идеологии в науке до его низложения, пересмотра культурных ценностей и методологии исследований, структуралистского порыва в конце 1950-х гг., появления молодого поколения лингвистов в 1960-е гг. Именно они позднее встали в авангарде филологической науки, реабилитировали синхронную лингвистику, осваивали новые инструменты, предпринимали экспедиции по изучению редких языков, развивали типологию – оттачивали неформальные лингвистические идеи (Бурас, 2022). К этой когорте ученых принадлежит профессор В. М. Алпатов, выпускник Отделения теоретической и прикладной лингвистики МГУ имени М. В. Ломоносова, – центра экспериментального языкознания второй половины XX в. Его научный путь хорошо известен. Кроме этого, в недавней автобиографической книге (Алпатов 2023б) он подробно рассказал о своем становлении – об учителях, царившей в то время атмосфере и зарождавшейся новой эпохе антропоцентризма и системоцентризма в науке. Поэтому наш очерк не будет содержать фактов биографии ученого. Мы постарались осмыслить его наследие в контексте нерешенных проблем и противоречий современной лингвистики, показать важность преемственности традиции в эпоху языковедческих переворотов (Алпатов, Валентинова, Никитин, 2023) и подчеркнуть необходимость пересмотра порой шаблонного представления о языковедческой теории и практике XX-XXI вв. Разнообразная и последовательная деятельность В. М. Алпатова дает немало поводов в том числе и для подведения некоторых итогов развития языковедческих теорий и применения междисциплинарных подходов для лингвистики будущего.
2. Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужили книги и статьи В. М. Алпатова 1970-2020-х гг. и работы его современников по теоретической и прикладной лингвистике, в особенности типологии языков, компаративистике, социолингвистике, а также теории и историографии языкознания. Это те основные области, в которых знания и талант ученого выразились наиболее рельефно и во многом стали толчком к развитию современной методологии научных исследований, переживающей кризис. В такое время необходимо общение с личностями типа Гумбольдта, в философии языка которого мы до сих пор обнаруживаем провидческие парадоксы, помогающие нам и сейчас смотреть на предмет языкознания не как на свод «полицейских законов», а как на «систематическую науку» (Гумбольдт, 1985: 347). «Изучение языков мира, – писал он в свойственной ему афористической манере, – это также всемирная история мыслей и чувств человечества» (Гумбольдт, 1985: 349). Предполагаем, что и В. М. Алпатов, «гумбольдтианец» XXI века, отлично знает методы и принципы главного устроителя науки будущего и успешно их применяет в своей деятельности. Сюда удачно вписываются его лингвистический и культурологический интерес к Японии и вообще к восточному языкознанию (Алпатов, 1971; 1973; 1979; 1989; 2012; Алпатов, Аркадьев, Подлесская, 2008), и четко усвоенные им законы типологии, «отрепетированные» на большом количестве языков и методик (Алпатов, 2023а), и тяготевший долгие годы над отечественной методологией европоцентризм (Алпатов, 2017), которые мы медленно преодолеваем к XXI в. (в этом немалая заслуга ученого), и изучаемые им по архивам факты, забытые дискуссии и громкие перевороты в летописи советского периода языкознания, где он особенно выделяет роль личности в истории лингвистической мысли (Алпатов, 1991; 1996а; 2005; Ашнин, Алпатов, 1994), и социолингвистический аспект компаративистики, имеющий существенное прикладное значение (Алпатов, 2000), и даже лингвомемуаристика, откуда он черпает знания об истинной науке и ее героях (Алпатов, 1996б; 2016; 2023б). Кстати, этот жанр в последние годы стал популярен в лингвистике и доставляет нам много полезной информации о том, как создавались научные школы, формировались новые идеи и пестовались будущие Гумбольдты (Бурас, 2019; 2022).
Основными методами исследования являются: а) историко-лингвистический, который позволяет выявить и охарактеризовать основные черты научной парадигмы, сформулировать положения лингвистической школы в контексте традиции и выявить ее новаторские черты; б) типологический, определяющий закономерности и структурные отношения грамматики языков, сопоставляющий их уровни в системном русле, выявляющий универсальные свойства языков для построения типологических характеристик (для В. М. Алпатова особенно характерны интерес к теории и практике перевода, к изучению категориальных признаков и сопоставление структур разных языков); в) социолингвистический, решающий широкий спектр проблем, связанных с социальной природой языка (полевые методы, коммуникативная и ситуативная вариантность языка – В. М. Алпатову свойственно применение методики изучения социоязыковой ситуации) и территориально-политическими изменениями, влияющими на формирование национально-культурных черт; г) сравнительно-исторический, решающий ключевые проблемы переломных этапов становления и трансформации лингвистических традиций (В. фон Гумбольдт – Ф. Бопп – Я. Гримм – А. Х. Востоков – Ф. Ф. Фортунатов – И. А. Бодуэн де Куртенэ); д) антропологический, так как в центре внимания В. М. Алпатова часто находятся личности в науке, формирующие лингвистическое направление (М. Мюллер, А. Мейе, Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон, Е. Д. Поливанов, Н. Я. Марр, М. М. Бахтин, П. С. Кузнецов, Н. Н. Поппе, В. А. Звегинцев и др.). Их взгляды, когнитивные способности, привычки изучаются ученым с позиции «человековедения». Еще в статье «Об антропоцентрическом и системоцентрическом подходах к языку» В. М. Алпатов отмечал, что антропоцентрический подход первичен, при этом исследователь должен опираться на «осмысление и описание своих представлений носителя языка, часто именуемых лингвистической интуицией» (Алпатов, 1993: 15).
3. Результаты исследования и их обсуждение
3.1. Лингвистическая типология и проблемы изучения восточных языков
Типологическую лингвистику смело можно назвать наукой будущего. Философские подступы к ней начал в современном понимании еще Вильгельм фон Гумбольдт. Хотя справедливости ради стоит заметить, опираясь в том числе и на работы В. М. Алпатова, что структурно-типологические характеристики отчетливо просматриваются в «Грамматике» Пор-Рояля (Алпатов, 2017: 369-381). И затем на протяжении двух столетий в некотором соперничестве с традиционной компаративистикой типология оттачивала свои принципы и способы анализа языков. Но электронный формат науки XXI в., созданные базы данных и конкордансы, многочисленные полевые экспедиции по изучению редких языков позволили найти более современные методы исследования и применить их в практике типологических построений. Так, журнал «Вопросы языкознания» в последние десятилетия сменил вектор проблематики именно в эту сторону – большинство статей, издаваемых в нем, изучает типологические аспекты разных категорий и языков в грамматическом, фонологическом, структурно-семантическом отношениях (Виноградова, 2023; Горбов, 2022; Козлов, 2021; Макаров, 2024; Урысон, 2021). Постепенно сформировались и типологические школы – от Ф. Ф. Фортунатова до Э. Сепира, Н. С. Трубецкого, И. И. Мещанинова, Б. А. Серебренникова, В. А. Дыбо, А. Е. Кибрика, В. А. Плунгяна. В последние десятилетия активно разрабатывается корпусная лингвистика. Ее результаты получили воплощение в разных аспектах сопоставительного языкознания (см.: Bogaards, 2022; de Swart, Tellings, Wälchli, 2022; Плунгян, 2023; Плунгян, 2024) и во многом определили стратегию развития данной отрасли в XXI столетии.
В. М. Алпатов и в этой области ученый зрелый, страстный, готовый изучать и решать самые сложные вопросы. Так, несколько работ он посвятил исследованию айнского и алтайских языков. Первый из них был распространен в северной Японии, на юге Сахалина и Камчатки, на Курильских островах. Ученый отмечает, что «грамматика айнского языка характеризуется четким противопоставлением двух знаменательных частей речи: имени и глагола. Они различаются как синтаксическими свойствами, так и морфологически, имея разные системы аффиксов… Другие классы знаменательных слов четко не выражены: обычно выделяют немногочисленные классы демонстративов, употребляемых только атрибутивно, и наречий, однако границы этих классов не очень ясны» (Алпатов, 2023а: 119). Изучение грамматических характеристик этого языка дало основание исследователю отнести его к группе преимущественно языков номинативного строя. Тем не менее он замечает: «Однако глагольное управление имеет и некоторые черты, свойственные скорее языкам активного строя. Как и в активных языках, здесь отсутствует категория залога; в то же время имеются разнообразные способы разграничения действий (состояний), выходящих за пределы активного актанта, и действий (состояний), замкнутых в актанте» (Алпатов, 2023а: 121). Особенности языка активного строя он находит и в семантике членов предложения, и в системе имени, где отсутствует категория падежа, а «субъектно-объектные отношения морфологически не выражаются» (Алпатов, 2023а: 121). Есть и другие черты, сближающие айнский язык с признаками активных языков. Ученый называет такие характеристики: отсутствие времени, инфинитива, несвойственность этому языку имен действия. Показательно следующее наблюдение В. М. Алпатова: «Довольно распространены в айнском языке и инкорпоративные комплексы, также характерные для активных языков: ’api “огонь”, ’ari “разжигать”, ’api’ari “разжигать огонь”, he “голова”, ’usi “прикреплять что-л. к чему-л.”, he’usi “надевать что-л. на голову”, kewe “тело”, ri “быть высоким”, keweri “быть высокого роста”» (Алпатов, 2023а: 122). Ученый выдвинул гипотезу о том, айнский язык «развивался от активного строя к номинативному», но поскольку не сохранились исторические данные, подтвердить все факты не удается, например, «что в айнском языке из явлений … можно относить к архаизмам, а что к инновациям… Можно предполагать, что эпический айнский отражает раннее языковое состояние, однако по большинству признаков он сходен с южнохокайдоскими диалектами» (Алпатов, 2023а: 123).
В работе «Алтайские языки и общая лингвистика» автор затрагивает малоизученные вопросы типологической лингвистики и справедливо указывает, что эта группа языков оставалась почти на периферии исследований европейских и американских ученых, а в нашей стране изучалась не всегда последовательно (Алпатов, 2023а: 175-176). Поэтому ученый ставит такой вопрос: как описывать эти языки? Он утверждает: «Возможны три подхода: максимально грамматический, чисто словарный и промежуточный. Однако чисто словарный подход (реально существовавший в Японии до XVIII в., пока наука там была лишь китаизированной) слишком явно неудобен, поскольку в словарях трудно и неэкономно описывать информацию, связанную с грамматическими категориями. Недаром после формирования в XVIII – начале XIX в. национальной японской традиции впервые была описана морфология японского языка, и именно благодаря тому, что грамматика как способ описания отделилась от уже давно существовавшей лексикографии» (Алпатов, 2023а: 181). Ученый считает, что в настоящее время господствует «максимально грамматический подход» к изучению алтайских языков, главным инструментом которого является изучение любого языка «по образцу флективного» (Алпатов, 2023а: 181). Но это более традиционный способ и в чем-то устаревший, уходящий корнями в типологические разработки XIX в. Новые способы описания полагаются на более совершенные методики – на «грамматику порядков» И. И. Ревзина и Г. Д. Юлдашевой. Ученый полагает, что «такой подход безусловно более адекватен, в том числе, вероятно, психологически: “словоформа” алтайских и других агглютинативных языков скорее не хранится в целом виде и не конструируется заменой одной группы суффиксов на другую, а «набирается» присоединением к основе нужного набора аффиксов» (Алпатов, 2023а: 182). Этот подход, как говорит исследователь, характерен для японской лингвистики. А проблема агглютинативности алтайских языков в современном понимании оказывается далеко не самой главной. Напротив, по мнению В. М. Алпатова, здесь важнее учитывать синтагматику и сочетаемость «грамматических элементов с лексическими и между собой» (Алпатов, 2023а: 182).
И другие проблемы сопоставительного языкознания нашли отражение в калейдоскопе научных интересов этого оригинального мыслителя. Среди них отметим внимание В. М. Алпатова к терминологии (работы, посвященные факультативности и уточнению понятий флективный язык и агглютинативный язык), к типологии оформления «морфемных стыков»; неоднократно он говорил о разных подходах к выделению частей речи и давал описание построения порядка слов в языках (см. подробнее: (Алпатов, 2023а)). Отмеченные вопросы перекликаются с общетеоретическими и историко-лингвистическими взглядами ученого, где главным является также сопоставительное изучение лингвистических традиций. Так, например, его книга о забытом в советское время монголоведе Н. Н. Поппе (Алпатов, 1996а) была весьма показательна в том числе и с позиции типологии русского и американского языкознания. Именно в этом ключе написаны многие его труды и сделаны научные открытия.
Еще с ранних лет В. М. Алпатов заинтересовался восточной традицией. Данной отрасли науки он посвятил немало работ и внес существенный вклад прежде всего в изучение японского языкознания. Он занимался разработкой теоретических и прикладных аспектов изучения японского языка, этикетными формами выражения речи, лексикологией и социолингвистикой, исследовал школы и биографии отечественных ориенталистов, в частности, Е. Д. Поливанова, чей культурный код определил характер развития этой отрасли в советский период (Алпатов, 2012). Путь, пройденный ученым в этом направлении, самостоятелен и оригинален. А потому обратимся к обзору наиболее ярких положений его работ в указанной области.
Кандидатская диссертация ученого была посвящена анализу грамматической системы форм вежливости в японском литературном языке (Алпатов, 1971). Тема звучала необычно и позволила ученому проникнуть, по сути, в систему общественных отношений между говорящим и слушающим (Алпатов, 1971: 3). Ученый подчеркивал специфику проблемы и в общелингвистическом смысле, указывая, что в европейских языках такие «отношения передаются лексически и лишь косвенно грамматически», а в японском языке грамматический элемент «во многих случаях обязателен» (Алпатов, 1971: 4). В ходе исследования автор пришел к выводу, что в японском языке выделяется две грамматические категории, «значением которых является передача общественных отношений»: адрессив (выражает отношения говорящего и собеседника без различия от того, о чем идет речь), существующий «в глаголе, связке и предикативном прилагательно», и гоноратив (выражает отношение к тем, о ком идет речь), используемый в знаменательных частях речи (Алпатов, 1971: 30). Ученый доказал, что это разные формы – каждая из них имеет свою систему, но «в значении категорий существует определенное сходство» (Алпатов, 1971: 30). Затем в монографии, изданной по материалам этой диссертации, автор более подробно показывает реализацию этих категорий для спрягаемых и именных частей речи (Алпатов, 1973).
В дальнейшем ученый раздвинул рамки исследования и проанализировал структуру грамматических единиц в современном японском языке на двух уровнях – морфологии и «морфосинтаксическом ярусе» (служебные слова в их сочетании со знаменательными). Исследователь обосновал, что в языковой системе японского языка существуют деривативный и релятивный ярусы. Он описал элементы каждого из них. В. М. Алпатов рассмотрел парадигматические характеристики лексем и граммем японского языка. Ученый провел синхронный анализ явлений без изучения исторических и диалектных процессов. Точкой отсчета стал послевоенный период, под которым и понимается термин «современный японский литературный язык» (Алпатов, 1979). В тоже время востоковедная проблематика помогла автору заострить внимание и на спорных проблемах общей теории и типологии языков. В частности, В. М. Алпатов приводит интересные рассуждения о неопределенности понятия слова в мировой лингвистике (от Ш. Балли до А. М. Пешковского и Л. В. Щербы, идеи А. А. Зализняка и др.). Этот аспект тем более важен, что традиционная наука обычно опускает такие спорные вопросы, тогда как они кардинально меняют отношения и функции единиц внутри системы языка (противопоставление словоформы и лексемы) и принцип их различения. У В. М. Алпатова это не «уровень абстракции», а «разное место в системе языка». По этому принципу он рассматривал такие категории: фонетическое слово, синтаксема, грамматические слова и лексические слова (лексема и вокабула) (Алпатов, 1979: 6-10). Для современного читателя эта книга может быть полезна как интересный опыт критического обобщения взглядов ученых разных школ и направлений на общую теорию языка. С одной стороны – В. В. Виноградов, Ю. Д. Апресян, с другой – И. А. Бодуэн де Куртенэ, Э. Бенвенист, несколько особняком стоял Е. Д. Поливанов. Мы не станем более подробно излагать содержание монографии. Добавим только, что в своих первых работах В. М. Алпатов проявил себя как грамотный теоретик и типолог, отлично разбиравшийся в противоречиях в лингвистике. Уже тогда скорее всего он начал задумываться над нерешенными проблемами в языкознании, которые в конце XX–XXI вв. будут активно обсуждаться в печати, например – семантико-прагматические функции частей речи в японском языке (Park, 2024), специфика грамматикализации и ее отражение в письменных и устных японских текстах (Higashiizumi, Shibasaki, Takahashi, 2024) и др. Включится в эту полемику в общетеоретическом отношении и сам автор в книге «Слово и части речи» (Алпатов, 2018а) и других трудах по теории языка и типологии (Алпатов, 2023а).
Ученый написал также содержательную монографию «Изучение японского языка в России и СССР», впервые обобщившей сведения о становлении японистики как самостоятельной науки в нашей стране (Алпатов, 1989). Этот очерк представил историю и современное состояние данной отрасли, начиная с XVIII в. Примечательно, что отдельная глава книги была посвящена личности и трудам Е. Д. Поливанова, совершившего еще в дореволюционные годы экспедицию на Дальний Восток и написавшего самобытные работы по японской фонологии и акцентологии. В. М. Алпатов разбирал исследования ученого в области грамматики, лексикологии и этимологии, японской социолингвистики и фактически реабилитировал имя Е. Д. Поливанова как ведущего востоковеда-подвижника, погибшего в конце 1930-х гг. Замечательно, что В. М. Алпатов охарактеризовал труды Е. Д. Поливанова как новый этап в отечественной японистике и подчеркнул, что «они признаны в Японии»: «Он – единственный из отечественных лингвистов-японистов, получивший известность в Японии» (Алпатов, 1989: 64). Кроме его имени, В. М. Алпатов отдельный материал посвятил основателю школы советских японистов академику Н. И. Конраду и сделал критический разбор трудов А. А. Холодовича, А. А. Пашковского, Н. А. Сыромятникова, Е. М. Колпакчи и других ученых.
В дальнейшем «поливановедение» после опубликованных архивов и новых данных подтвердило высокий пафос «великого ученого», как о нем говорили японцы, а работы В. М. Алпатова получили широкий резонанс и развитие в трудах лингвистов XXI в. по проблемам восточного языкознания (Андронов 2018; Дыбо, 2020; Зибер, 2024). И до настоящего времени Владимир Михайлович не потерял интереса не только к японистике, но и к китаистике и является одним из самых последовательных языковедов, пропагандирующих лучшие традиции сравнительно-исторического и типологического языкознания в России и зв ее пределами (Алпатов, 2021б).
Ученого привлекали и другие аспекты японистики. В соавторстве с коллегами вышла книга по теоретической грамматике японского языка (Алпатов, Аркадьев, Подлесская, 2008). В 1970-1980-х гг. в Дальневосточном государственном университете (Владивосток) он читал курс лекций «Лексикология японского языка», который оставался до недавнего времени неизданным в полном виде, а теперь доступен для изучения в книге «Японистика. Теория языка. Социолингвистика. История языкознания» (Алпатов, 2017: 13-84). Другие публикации в данном направлении, по большей части дополняющие указанный сборник, вышли в 2023 г. и отразили разнообразие общетеоретических и типологических характеристик Oriental studies. Это и изучение грамматической системы форм вежливости современного японского литературного языка, и наблюдения над единицами грамматики и функционированием японской падежной системы, тонкие замечания о мужском и женском вариантах японского языка, а также статьи «О специфике японских словарей», «Вариативность японского языка в связи с типами языкового существования» и «Нестандартные видовые категории в современном японском языке» (Алпатов, 2023а: 7-89).
3.2. Социолингвистика и прикладные аспекты языкознания
Другой областью научных интересов В. М. Алпатова является социолингвистика, которую ученый понимает также в компаративистском и историко-лингвистическом отношениях. В первую очередь, его интересуют те явления и имена, которые инициируют крупные идеи или направления. Но ученый выступает здесь и как теоретик, и как типолог, широко интерпретирующий данную проблематику и во многих своих публикациях освещающий социолингвистические вопросы в контексте общего (а не только русского) языкознания. Даже в японистике он от теории нередко переходит к социологии. Так, В. М. Алпатов приводит интересное наблюдение о том, что «ситуация в Японии показывает различие между функциональным и структурным подходом к диалектам. Противопоставление литературного языка и диалектов там очень устойчиво с функциональной точки зрения, но структурно диалекты сильно меняются под влиянием литературного языка. Многие исконно диалектные черты там исчезли, но не настолько, чтобы диалект (“язык для своих”) перестал отличаться от литературного языка (“язык для чужих”)» (Алпатов 2018а: 171). Ученый затрагивает в работах самые актуальные вопросы социолингвистики. Особенно интересны сопоставительные исследования литературного языка в Японии и России, его анализ американизации японского языка и вопросов глобализации в целом, проблема массового сознания на Востоке и в нашей стране, изучение иерархии языков и др. (Алпатов, 2017: 261-360).
Показательна в этом отношении книга «150 языков и политика 1917-2000. Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства», в которой впервые в отечественной науке (1-е издание вышло в 1997 г.) дается аналитический обзор истории языковой ситуации и языковой политики в СССР и в странах, образовавшихся после его распада (Алпатов, 2000). Автор отмечает, что изучение социолингвистических проблем в республиках СССР началось в 1920-х гг., начиная с Е. Д. Поливанова, А. М. Селищева, Н. Ф. Яковлева, Л. П. Якубинского и др. В. М. Алпатов очень уважительно относится к наследию классиков и при этом полагает, что «не все их идеи и прогнозы выдержали испытание временем» (Алпатов, 2000: 5).
Остановимся более подробно на наиболее ценных, на наш взгляд, положениях, высказанных в книге. Конечно, самым неоднозначным временем стал период становления новой языковой политики в молодом советском государстве. Так, уже в 1920-е годы особые декреты давали официальное право вести в Татарии и Якутии делопроизводство на родных языках (Алпатов, 2000: 40). Ученый отмечает, что языковое строительство шло неравномерно, с перекосами на местах, а многие языки не имели разработанной литературной нормы и письменности (Алпатов, 2000: 46). Кроме того, среди ведущих реформаторов не было единого подхода в этом вопросе: одни (Е. Д. Поливанов) критиковали лингвистику XIX в. и считали, что ответы на многие теоретические вопросы можно найти в новой языковой политике, опиравшейся на идеологию марксизма; другие (Л. П. Якубинский) спорили с де Соссюром по поводу «невозможности изменять язык при помощи специалистов»; третьи (Н. Ф. Яковлев) говорили о степени развития языков и их идентичности (Алпатов, 2000: 54-56). Но все они, по мнению автора монографии, признавали необходимость введения «единых принципов построения алфавитов и унификации алфавитов для всех языков» (Алпатов, 2000: 55). Идеология марризма с конца 1920-х гг. внесла жесткие коррективы в независимые суждения лингвистов, объявив своих противников «буржуазными учеными» и стараясь подмять под себя стратегию языкового строительства, но «реально Н. Я. Марр и его школа не внесли вклада в развитие языков народов СССР, хотя марристская пропаганда позднее именовала академика руководителем работ по языковому строительству» (Алпатов, 2000: 59-60).
Интересны наблюдения В. М. Алпатова о выборе графической системы письма (кириллица или латиница?) и дискуссиях на эту тему в довоенное время: «История с латинизацией русского письма может считаться как бы предельной точкой языковой политики 20-х гг., направленной на разрыв с традициями царского времени. Этот рубеж взят не был, и вскоре начинается общий откат назад» (Алпатов, 2000: 72).
Ученый приводит информацию о неоднозначности языковой ситуации на местах, например, в Дагестане, где отказывались от введения латинского алфавита. Были и курьезные случаи. Один из них ученый описывает так: «В Наркомпрос явилась группа цыган, устроила там скандал и проникла в кабинет наркома А. С. Бубнова. Они требовали ни больше ни меньше чем перевода образования в цыганской школе в Москве на русский язык» (Алпатов, 2000: 85).
Примерно с 1933 г. начинается поворот языковой политики от латинизации в сторону кириллицы, но официально постановлением 1935 г. решили переводить письменности народов Севера на русский язык (Алпатов, 2000: 87). Западные исследователи, как показал автор книги, трактуют «принудительную» русификацию в СССР в 1930-е гг. как «политическое мероприятие». Тем не менее эти вопросы стояли так актуально, что нужно было с определенными издержками формировать новую политику – чем меньше автономий, тем меньше языков. Так, например, «в 1930-е гг. существовала особая письменность для карел, но после ликвидации в 1940 г. карельской автономии в… Тверской области эта письменность исчезла (в собственно Карелии писали по-фински)» (Алпатов, 2000: 91).
Период 1950-1970-х гг. в нашей стране с точки зрения языковой политики В. М. Алпатов характеризует как стабильный. Однако и в это время происходили такие явления, которые способствовали, в частности, уничтожению коренных языков народов Севера. Ссылаясь на авторитетного исследователя Н. В. Вахтина, он пишет о трагедии активной русификации в тех регионах (она началась с середины 1950-х гг.), которая привела к тому, что «детям запрещали пользоваться материнскими языками в школах, а родителям учителя советовали не говорить дома с детьми на этих языках» (Алпатов, 2000: 130). Эти и другие противоречия в языковой политике того времени В. М. Алпатов показал с опорой на большое количество фактов, критику иностранных ученых, статистику и в целом представил очень корректное, содержательное положение вещей в то время.
При анализе социолингвистической ситуации в постсоветский период В. М. Алпатов не обходит многие дискуссионные проблемы: отсутствие внятной языковой политики (путаница с понятиями «государственный язык» и «национальный язык»), ослабление позиций русского языка в Татарстане, Чеченской Республике, Якутии-Саха, попытка ввести в 2000 г. «в обязательном порядке изучение адыгейского языка» и др. (Алпатов, 2000: 154). С новой силой возникает проблема изучения языков малых народов и поддержка развития национальной идентичности. Мощным толчком к этому процессу стали научные исследования и журналы, публикации в СМИ, разработки образовательных программ с целью сохранения малых языков (Боргоякова, Биткеева, 2023; Боргоякова, Донгак, 2024; Боргоякова, Покоякова, 2022). Так, например, в Республике Тува в настоящее время выходит известное издание, включенное в 1 квартиль Скопуса, – «Новые исследования Тувы», которое как раз ориентировано на изучение национальной культуры, этнографии и языка. С другой стороны, В. М. Алпатов как бы полемизирует и с крайне правыми взглядами, декларирующими особые права языков национальностей. Он обоснованно полагает, что «принудительное сохранение традиционной культуры и не имеющих реальных перспектив языков ничуть не лучше принудительной русификации» (Алпатов, 2000: 163).
Наконец, автор обсуждаемой нами книги касается проблемы «одноязычия» в бывших республиках СССР, где русский язык был выведен за границы государственного. Особенно тревожная ситуация в Прибалтике, где одна из главных задач такой политики «забыть Россию, русский язык и русских» (цит. по: (Алпатов, 2000: 176)). И хотя со времени первого издания книги прошло уже почти 30 лет, до сих пор актуально звучат слова ученого о сложностях языковой ситуации в Грузии, Казахстане, Молдавии, Украине. Это особый вопрос, который требует очень тщательного изучения и анализа. Отметим только, что В. М. Алпатов стремится показать весь спектр суждений и коммуникативных практик, чтобы избежать голословных выводов. И эта позиция ученого вызывает несомненное уважение.
Кроме того, в книге рассматриваются общетеоретические и прикладные аспекты этой науки: функционирование языка в многоязычном пространстве, коммуникативные стратегии двуязычия, национальные меньшинства и языки, роль региональных языков, проблема вымирания языков и т. д. Все эти вопросы особенно сейчас звучат очень актуально и обсуждаются в сообществе лингвистов. Заслуживают внимания наблюдения ученого над высказываниями И. А. Бодуэна де Куртенэ, который именно из-за его позиции в отношении национальных меньшинств в царское время испытал лишения, оставаясь при этом последовательным пропагандистом новой национально-языковой политики. Его мысли и сейчас звучат современно: «Чиновники являются слугами населения, и поэтому все чиновники данной местности или области должны владеть всеми свойственными ей языками» (цит. по: (Алпатов, 2000: 36)).
В монографии приведены интересные факты из истории языковой политики в разных регионах мира, позволяющие понять и оценить характер взаимоотношений нация – язык – государство и определить причины воздействия идеологии на тот или иной язык. Так, например, В. М. Алпатов писал, что «во Франции еще в 1951 г. был снят запрет на использование бретонского, баскского, каталонского (провансальского) языков, окситанского языка (или диалекта)» (Алпатов, 2000: 27).
Эта книга обращена и к читателям XXI в., которые часто не знают всего багажа проблем и дискуссий прошлого времени. Все, о чем писал В. М. Алпатов, безусловно, стоит в центре внимания актуальной социолингвистической теории и практики, фиксирующей миграции языков и культур (Abbasi, David, Ali, 2023), острые проблемы национальной идентичности (Ramonienė, Ramonaitė, 2021; Чеснокова, Мартыненко, 2024) и дискурсивные практики (Ponton, 2023), двуязычия и адаптации некоренных носителей языка к государственному языку (Вихрова, Лыпкань, Федотова, 2023; Джусупов, 2023). Лингвистические периодические издания на регулярной основе обсуждают эти вопросы, привлекают к дискуссии самых авторитетных исследователей. Так, например, ключевой темой журнала «Вестник РУДН. Серия «Лингвистика» (т. 25, № 4, 2021) стало «Сохранение русского языка и языковые контакты постсоветских иммигрантов в Европе и за ее пределами». Спецвыпуски журнала «Филологические науки. Научные доклады высшей школы» (№№ 6s за 2022 и 2023 гг.) были посвящены сохранению миноритарных языков и билингвизма.
Многие из поднятых в работах В. М. Алпатова проблем теперь стали предметом новой научной дисциплины – политической лингвистики, которая приобрела статус самостоятельной науки как раз во многом благодаря вниманию В. М. Алпатова и ученых его круга к социокультурным процессам в мировых языках. Позднее некоторые из известных его публикаций на эти темы вошли в «Избранные труды XX века»: «Об эффективности языкового законодательства», «Общественное сознание и языковая политика в СССР (20-40-е гг.)», «Языковая политика в РСФСР (1918-1991 гг.)», «Зарубежная социолингвистика о проблемах двуязычия и языков национальных меньшинств» и др. (Алпатов, 2023а: 184-197, 227-247). Это значит, что опыт ученого продолжает учитываться, а его авторитетное мнение на сей счет, колоссальные знания, большая жизненная научная практика, умение не только обозначить «кризисную» проблему, но и показать пути ее решения, – будут и в XXI в. формировать дисциплину идей социолингвистики.
3.3. Теория языка и историография лингвистики
Живее всего, как нам представляется, талант языковеда-энциклопедиста проявился у ученого в освоении истории лингвистических учений. В этой области он сделал самые яркие открытия и фундаментальные обобщения.
Немало работ посвящено истории восточного, европейского, американского и советского языкознания. Это отдельная сфера исследований В. М. Алпатова, где он проявил свои лучшие качества лингвиста, типолога, знатока дискуссий и школ, человека высокой нравственной культуры и немалого научного мужества. Его профессиональной оценки удостоились многие спорные, выделявшиеся из плеяды лингвистов личности: авторы «Грамматики Пор-Рояля», В. фон Гумбольдт и А. Шлейхер, «диссиденты индоевропеизма», А. Мейе и Ж. Вандриес, Женевская школа, Пражский лингвистический кружок, Э. Сепир и Б. Уорф, структуралисты, Н. Я. Марр и его оппонент Е. Д. Поливанов, М. М. Бахтин и Фердинанд де Соссюр, французская лингвистика 1940-1960-х гг., монголовед Н. Н. Поппе, классики Р. О. Якобсон и Н. Хомский, представители и выпускники Отделения теоретической и прикладной лингвистики МГУ, особенно В. А. Звегинцев, востоковеды, слависты…
Главное достоинство трудов В. М. Алпатова по историографии лингвистики заключается в видении лингвистических традиций и их эволюции, а также в определении наиболее ценных подходов к изучению языка в конкретной школе. Это создает системный взгляд на предмет и позволяет грамотно оценивать достижения прошлых времен, соотносить их с современными трактовками и анализировать пересечения традиций. Скажем, «Грамматика» Панини, по мнению ученого, «имела порождающий характер» и была нацелена «на преобразование смысла и исходных единиц в текст» (Алпатов, 2001: 25). А китайская традиция особое внимание обращала на лексикографию. В Европе грамматики возникли раньше, чем словари (Алпатов, 2001: 28). Несмотря на ценность любого значимого лингвистического опыта, ученый все же считает, что на развитие языкознания прежде всего влияла «европейская традиция, из которой непосредственно выросло научное (курсив наш. – О. Н.) языкознание» (Алпатов, 2001: 41).
Интересны в смысле эволюции теоретических идей наблюдения В. М. Алпатова над «Грамматикой Пор-Рояля», которая открыла новый взгляд на языки с точки зрения изучения их сравнительных характеристик. Но не только – А. Арно и К. Лансло, как полагает В. М. Алпатов, смотрели далеко вперед, когда анализировали «суждения»: они «четко различают формальную и семантическую структуры» (Алпатов, 2001: 47), обсуждают синонимию языковых выражений, что получило отклик, например, в «трансформационных правилах» Н. Хомского (Алпатов, 2001: 48). Критика этого «умствующего, априористического, ребяческого» (высказывание И. А. Бодуэна де Куртенэ) труда в XIX-XX вв., по мнению ученого, не умалила его главных достоинств: он способствовал развитию «структуры мысли» и впоследствии оказался созвучен хомскианской грамматике. Ученый обоснованно считает, что этот средневековый трактат восстановил престиж синхронной лингвистики (Алпатов, 2001: 48-49).
Обратимся и к другим показательным сюжетам из «алпатовской энциклопедии лингвистики». «Диссидентами индоевропеизма» ученый назвал Х. Шухардта, Ж. Жильерона, итальянскую школу неолингвистики и Н. Я. Марра, искавших других путей изучения языка. Многие из них и их соратники – выходцы из сравнительно-исторической школы, господствовавшей в XIX в. Но в своих взглядах они были критически настроены к традиционным положениям компаративистики. Так, по мнению В. М. Алпатова, Х. Шухардт пытался «вообще изгнать из лингвистики понятие языкового закона» и не принимал концепцию родословного древа А. Шлейхера, противопоставив ей идею скрещения языков: «Не существует ни одного языка, свободного от скрещений чужих элементов» (цит. по: (Алпатов, 2001: 107)). Ж. Жильерон и французско-швейцарская школа «лингвистической географии» занималась картографированием языковых явлений и утверждала, что четкие границы языков могут быть условными (например, между французскими и итальянскими диалектами), что нарушало традиционную концепцию компаративистики (Алпатов, 2001: 108-109). Представитель итальянской школы неолингвистики М. Бартоли и его сторонники, как отмечал В. М. Алпатов, настаивали «на смешанном характере едва ли не всех языков», отрицали различие между «регулярными» и «нерегулярными» явлениями, критиковали младограмматиков за «отрыв языка от человека», «неучет индивидуального творчества», приняли теорию языковых союзов Н. С. Трубецкого и др. (Алпатов, 2001: 110-111). Н. Я. Марр, которому ученый посвятил монографическое исследование (Алпатов, 1991), тоже был отнесен к «диссидентам индоевропеизма» из-за того, что он порвал связи с сравнительно-историческим языкознанием и не признавал многих принципов лингвистической науки. Как справедливо написал В. М. Алпатов, «“новое учение” представляло собой причудливую смесь из идей В. фон Гумбольдта о стадиальности, Х. Шухардта о скрещении языков, мыслителей XVII-XVIII вв. о происхождении языка и будущем мировом языке, ранних идей самого Н. Я. Марра… и отражавших советское общественное сознание тех лет концепций революционных скачков в языке и отражения языком экономического базиса» (Алпатов, 2001: 111). Подробнее о Н. Я. Марре и его взглядах ученый пишет в отдельной книге, и она отрывает цикл его работ о тайнах советского языкознания.
В. М. Алпатов был одним из первых лингвистов, кто принялся изучать ранее закрытые факты, которые оставались долгие годы неизвестны или же толковались не всегда корректно. Социокультурные перемены в стране, происходившие во второй половине 1980-х, дали возможность переосмыслить традиции и трагедии советского языкознания, исследовать уникальные архивы, рассказать правду о репрессиях в науке и уже совсем по-другому изложить историю лингвистики XX столетия. Здесь В. М. Алпатову понадобился весь арсенал знаний не только в области языков, но и публицистики, дискуссий, поиска потомков тех событий, публикации писем, дневников и воспоминаний, оценки иностранных ученых и русских эмигрантов и многое другое. По сути, именно работы и большая общественная, поисковая деятельность В. М. Алпатова в этом направлении позволили его последователям открыть новые имена в лингвистике 1920-1950-х гг., затерянные во времени и идеологических противостояниях с властью.
Книга «История одного мифа: Марр и марризм» (Алпатов, 1991) стала заметным явлением в научной жизни конца XX в. Она впервые с учетом новых данных переосмыслила вклад академика Н. Я. Марра в развитие лингвистики и дала объективную оценку «нового учения о языке». Само явление марризм носило в 1920-1940-е гг. массовый характер, было практически огосударствлено и стало главной религией в языкознании того времени. Однако, как справедливо замечает ученый, «в советских работах еще никогда детально не рассматривались причины его успеха и признания “единственным марксистским” учением в языкознании…» (Алпатов, 1991: 4). Ученый подробно говорит об истоках марризма, отмечая прежде всего, что Н. Я. Марра хорошо знали и до революции – он был ориенталистом очень широкого профиля (археологом, этнографом, литературоведом и отчасти языковедом), но добился авторитета не лингвистическими трудами (Алпатов, 1991: 8-9). Примечательно и то, что «при большом количестве изучавшихся им языков он не прослушал ни одного специально лингвистического курса, даже курса сравнительной грамматики индоевропейских языков, читавшегося в те годы студентам-филологам, но не востоковедам» (Алпатов, 1991: 11). Автор делает интересные психолингвистические наблюдения и над феноменом Н. Я. Марра, показывает, почему он стал таким «гегемоном»: «…Марр был лишен центра торможения»; «Отсутствие критики работ Марра в русском кавказоведении, способствовало развитию худших качеств его личности» (Алпатов, 1991: 12-13). Еще одна черта – «постоянная болезненная реакция на все проблемы, связанные с Кавказом» (Алпатов, 1991: 14), и желание громко заявить о мировой роли кавказских народов. Для понимания сути его научных исследований важно знать, по мнению В. М. Алпатова, то, какие методологические принципы исповедовал Н. Я. Марр. Это часто были априорные соображения, вначале выводы, а затем уже изучение материала. Вот как ученый пишет об этом: «Готовая идея часто лежала вне лингвистики, но могла быть связана и с лингвистической интуицией Марра, иногда, вероятно, даже правильной. Однако перевести свои идеи в научную теорию Марр не мог» (Алпатов, 1991: 15).
Эту книгу и другие публикации В. М. Алпатова о Н. Я. Марре можно и нужно читать не один раз. Изобилие фактов, цитат, столкновение мнений, личные конфликты, лингвистические баталии представителей разных школ и человеческие трагедии ученых – все это получило отражение в цикле трудов, освещающих самый сложный и неоднозначный период XX в., который мы называем марризмом.
Своеобразным поворотом лингвистической летописи науки в сторону философии и методологии языкознания можно считать исследование В. М. Алпатова, посвященное изучению лингвистических идей М. М. Бахтина и В. Н. Волошинова и обсуждению книги «Марксизм и философия языка», которую автор монографии рассматривает не только в русле отечественной традиции, но и в контексте мировой лингвистики (Алпатов, 2005). Дело в том, что проблема «абстрактного объективизма» и «индивидуалистического субъективизма» является универсальной и активно обсуждалась в европейском языкознании – от В. фон Гумбольдта до школы К. Фосслера, В. Брёндаля и В. Матезиуса. Поэтому В. М. Алпатов, анализируя основные идеи названной книги и характеризуя истоки и общую обстановку в те годы, дает портрет не только языковых личностей, но и раскрывает общие проблемы лингвистики: концепцию знака, полемику с Ф. де Соссюром, вопросы речевого взаимодействия, синтаксис и др. Особенно ценны наблюдения ученого над рецепцией идей М. М. Бахтина и В. Н. Волошинова в современной лингвистике. Так, В. М. Алпатов высказал ряд интересных мыслей по поводу «хомскианской революции», теории речевых актов и прагматики, об отношении советской философии языка к западной социолингвистике, о школе языкового существования в Японии. Отмеченные типологии в будущем потребуют более детального анализа.
Эта книга привлекла наше внимание тем, что автор в очередной раз раскрыл не рядовой сюжет в истории языкознания, который находился в тени исследователей и поэтому не вошел в стандартные учебники и академические труды по историографии лингвистики XX в. Между тем В. М. Алпатов показал, что развитие нашего языкознания в те годы нельзя отрывать от основных европейских школ – только в сопоставлении с идеями крупнейших лингвистов той эпохи следует оценивать методологию науки. И этот подход В. М. Алпатов последовательно проводит во всех своих трудах.
Во многом заслуживает внимания небольшая книга о русско-американском монголоведе Н. Н. Поппе (Алпатов, 1996), в судьбе которого отразились жестокие события XX столетия, а неоднозначность поведения этого ученого и его связь с нацизмом умалчивались долгие годы. И снова В. М. Алпатов берется за решение сложной проблемы. Понять реальный масштаб личности можно только, если опираться на достоверные данные. Бесспорно, Н. Н. Поппе был одним из ярких представителей советской монголистики. Его жизнь «по ту сторону» и дальнейшая деятельность в США описываются автором корректно и справедливо.
Писать о работах В. М. Алпатова по историографии лингвистики можно бесконечно – настолько широк диапазон его интересов в этой области. И они не ограничиваются только анализом учений, публикацией документов и реабилитацией ученых (Ашнин, Алпатов, 1994). Он изучает и общетеоретические проблемы, освещает дискуссии современной лингвистики и, возможно, показывает нам пути ее движения в XXI в.
В работе «Предварительные итоги лингвистики XX века», написанной еще в конце прошлого столетия, В. М. Алпатов охарактеризовал первостепенные проблемы этой науки, которые во многом стали импульсами для поступательного движения вперед (Алпатов, 2017). Такие обобщения тем более важны сейчас, когда мы ищем новые направления для языковедческих исследований, пытаемся строить современное здание лингвистики и порой забываем о традиции. В. М. Алпатов всегда очень чутко относился к понятию «научная школа» и не противопоставлял «российское» и «западное» в том смысле, что лингвистика – это культурный феномен. Здесь важны идеи, эксперименты, открытия и способы их реализации. Причем, и это характерная черта работ Владимира Михайловича, он не делит языкознание на «советское» и «постсоветское» и вообще старается избегать таких противопоставлений. Этим его взгляд заметно отличается от иногда шумных «апокалиптических» настроений коллег, отрицавших прошлое и клеймивших его застойными лозунгами. Кратко его мысли сводятся к следующим тезисам – итогам языкознания XX столетия:
1. Произошла реабилитация синхронной (ахронной) лингвистики.
2. Вектор интереса движется от статики к динамике.
3. Лингвистика активно взаимодействует с другими науками.
4. Ведущими тенденциями стали антропоцентризм и системоцентризм.
5. Большое внимание уделяется не только лингвистической теории, но и практике (полевые исследования).
6. В научных разработках изменился объект исследования.
7. Существует замедление в изучении некоторых аспектов языков мира, связанное с их изученностью.
8. Современная наука пытается преодолеть европоцентризм.
9. Внимание ученых сосредоточено не только на глобальных лингвистических традициях, но и на направлениях стран, не входивших ранее в круг стандартных научных школ.
10. Активное развитие получили типология и компаративистика (ср.: Dahl, 2022; Nesset, 2022).
11. Вместе с тем наблюдается эволюция идей в традиционных областях науки – в грамматике, фонологии, лексикографии, прежде всего за счет изучения опыта других школ и сопоставительных исследований.
12. В России заметно движение в сторону распространения лингвистики европейского типа.
13. Изменились центры мировой лингвистики. Если в XIX в. это была Германия, то после Второй мировой войны многое переместилось в США. Тем не менее он отмечает, что до сих пор остаются традиционно сильными национальные школы во Франции, России, Японии (Алпатов, 2017: 396).
В. М. Алпатов говорит и о нерешенных вопросах. К их числу он относит «вечные» проблемы, которые изучали ученые не только в XIX столетии, но и раньше: язык и мышление, национальная картина мира, причины лингвистических изменений и т. д. Но именно в XX в., по мнению В. М. Алпатова, был накоплен огромный языковой и теоретический материал, усовершенствованы методы исследования, предложены новые инструменты, «важные идеи вроде принципа экономии» (Алпатов, 2017: 395).
Ученый справедливо замечает, что кризис в лингвистике начала XX в. был преодолен: «Из нескольких конкурирующих вариантов победила структурная парадигма в варианте Ф. де Соссюра. Однако и она, к середине века многим казавшаяся вечной, затем уступила свое центральное место иным парадигмам» (Алпатов, 2020: 19). Насколько затянется нынешний «великий кризис» в лингвистике, какие метаморфозы произойдут в понимании идей и способов их реализации, появится ли такая личность, которая перевернет мир лингвистики и справится с «языковым хаосом», каковы будут границы новой лингвистики – покажет время. Обо всем этом живо и доказательно размышляет ученый. Завершим данную часть еще одним тезисом лингвиста, который нам показался ключевым как с точки зрения содержания его деятельности, так и прогностически (здесь мы с ним солидарны): «Европейское языкознание – не единственное» (Алпатов, 2017: 402). Итоги лингвистики показывают нам большой гносеологический багаж, созданной учеными XX века, и возможности прорыва в науку будущего.
4. Заключение
В представленном очерке мы показали некоторые важные идеи и достижения В. М. Алпатова в контексте научных поисков и открытий XX-XXI вв., сместив акцент в сторону той части лингвистического наследия ученого, которая выдвинула его в первые ряды просветителей науки. Менее подробно были рассмотрены труды по истории русского языкознания (Алпатов, 2005; Ашнин, Алпатов, 1994) – это отдельная большая тема, требующая специального разбора. Но и там ученый проявлял свой интерес не только как филолог-«документалист», но и как философ языка и компаративист, находящий типологические и культурно-исторические параллели с идеями европейской лингвистики, в частности, Ф. де Соссюром, как в указанной выше книге «Волошинов, Бахтин и лингвистика». Специального рассмотрения заслуживают работы по так называемой популярной лингвистике (Алпатов, 2018б) и интереснейшие «задачки» на олимпиадах, статьи методологического характера и неожиданные публикации вроде «Типы научного лидерства (на примере русского языкознания)» (Алпатов, 2021а), которые открывают новые грани таланта этого яркого, многопланового, очень плодовитого исследователя гумбольдтовского круга.
Обобщая предварительные наблюдения, стоит отметить те свойства когнитивного темперамента В. М. Алпатова, которые позволили ему создать новаторские, концептуально и методологически обоснованные труды, многие из которых являются ориентиром и в науке XXI века. Это гармоничное сочетание проверенных временем и экспериментальных методик исследования языков; отличные знания как отечественной, так и зарубежной лингвистической теории и практики; объективность суждений и стремление рассмотреть предмет изучения с разных сторон; широчайшая эрудиция гуманитария и феноменальная память, позволяющие проникать в самые сокровенные уголки лингвистики; профессиональный интерес к социологической стороне языка – по сути В. М. Алпатов стоял у истоков современной политической лингвистики; отличное владение инструментарием теоретической и прикладной лингвистики; последовательность и системность анализа языковых явлений и экстралингвистических факторов; чуткое внимание к историографии науки, ее архивам как хранителям подлинного знания.
Алпатовская школа – это прежде всего лингвоэнциклопедизм, постоянная рефлексия над живой тканью языков и теми изменениями, которые они претерпевают в процессе эволюции. Его школа социологична в том смысле, что рассматривает теорию и типологию языков вместе с внешними факторами, воздействующими на их развитие. Он уделяет большое внимание «духу» эпохи (почти как Гумбольдт) и чувствует ее ритм. У него не бывает проходных идей. Каждая работа – исповедь лингвиста над заданной проблемой, волнующей его как страстного мыслителя, желающего добраться до истины. В. М. Алпатову свойствен повышенный интерес к личностям лингвистов – «движителей» науки. Потому в центре его внимания всегда находятся интересные, порой противоречивые, но бесспорно талантливые и «неугомонные» ученые-самородки, создававшие целые направления и школы. Несмотря на такой широкий контекст исследовательских интересов, ученый в каждую отрасль лингвистики вносит свое новаторское видение, всегда подкрепляет догадки четкими примерами и сопоставлениями, не полагается на поверхностные суждения и не делает поспешных выводов. Многое, о чем пишет Владимир Михайлович, дискуссионно и даже пассионарно: он и лингвист-традиционалист, и филолог-новатор, и типолог, и структуралист, и востоковед, и философ, и культуролог, и просто очень живой, интересный собеседник, постоянно вглядывающийся во вселенную языков и в чем-то прозревающий будущее.
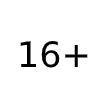


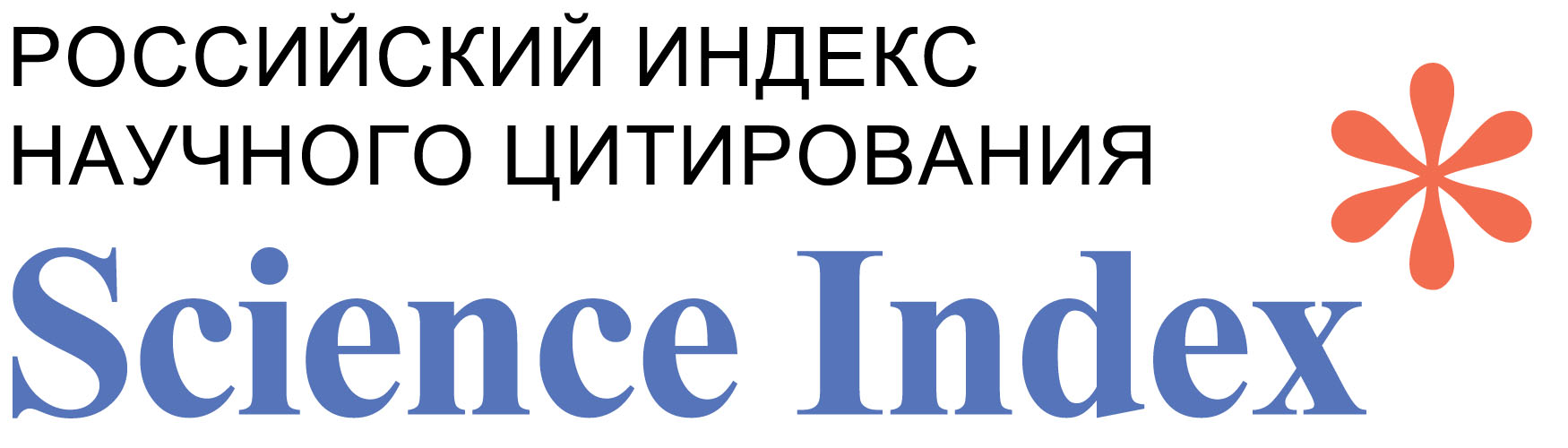



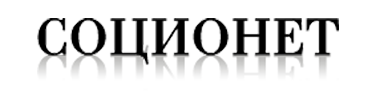
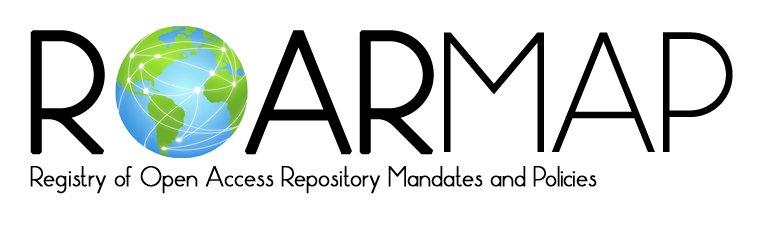

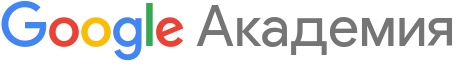


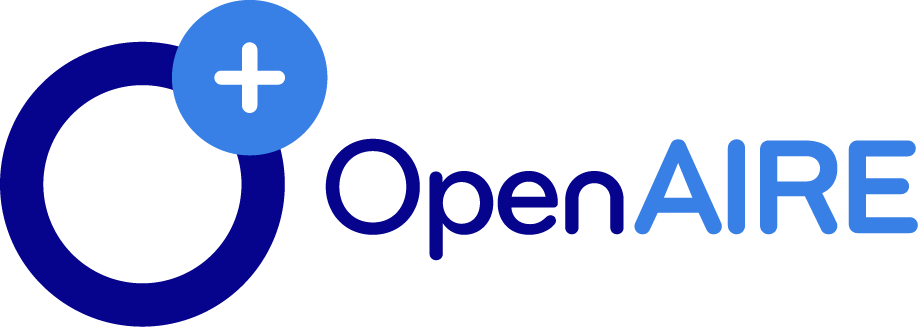




Список литературы
Алпатов В. М. Грамматическая система форм вежливости современного японского литературного языка: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1971. 31 с.
Алпатов В. М. Категории вежливости в современном японском языке. М.: Наука, 1973. 109 с.
Алпатов В. М. Структура грамматических единиц в современном японском языке. М.: Наука, 1979. 149 с.
Алпатов В. М. Изучение японского языка в СССР. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1989. 192 с.
Алпатов В. М. История одного мифа: Марр и марризм. М.: Наука, 1991. 240 с.
Алпатов В. М. Об антропоцентричном и системоцентричном подходе к языку // Вопросы языкознания. 1993. № 3. С. 15–26.
Алпатов В. М. Николай-Николас Поппе. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1996а. 144 с.
Алпатов В. М. Владимир Андреевич Звегинцев и его книга // Звегинцев В. А. Мысли о лингвистике. М.: Изд-во МГУ, 1996б. С. 5–10.
Алпатов В. М. 150 языков и политика 1917-2000. Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства. 2-е изд., доп. М.: Крафт+, Институт востоковедения РАН, 2000. 224 с.
Алпатов В. М. История лингвистических учений: Учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. М.: Языки славянской культуры, 2001. 368 с.
Алпатов В. М. Волошинов, Бахтин и лингвистика. М.: Языки славянских культур, 2005. 432 с.
Алпатов В. М. Языковеды, востоковеды, историки. М.: Языки славянских культур, 2012. 374 с.
Алпатов В. М. Московская фонологическая школа и история науки // Из истории московской лингвистики: Сб. научных статей и материалов / Сост. С. Н. Борунова, В. М. Алпатов; отв. ред. В. М. Алпатов. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2016. С. 155–175.
Алпатов В. М. Японистика. Теория языка. Социолингвистика. История языкознания. М.: Издательский Дом ЯСК, 2017. 520 с.
Алпатов В. М. Слово и части речи. М.: ЯСК, 2018а. 255 с.
Алпатов В. М. От Аристотеля до компьютерной лингвистики. М.: Альпина нон-фикшн, 2018б. 253 с.
Алпатов В. М. «Великий кризис» в истории лингвистики и пути его преодоления // Вопросы языкознания. 2020. № 5. С. 7–21. DOI: 10.31857/0373-658X.2020.5.7-21
Алпатов В. М. Типы научного лидерства (на примере русского языкознания) // Цифровой ученый: лаборатория философа. 2021а. Т. 4. № 3. С. 93–101. DOI: 10.32326/2618-9267-2021-4-3-93-101
Алпатов В. М. Е. Д. Поливанов о китайском и японском языках // Письменные памятники Востока. 2021б. Т. 18, вып. 46. № 3. С. 179–186. DOI: 10.17816/WMO77362
Алпатов В. М. Избранные труды XX века / сост. П. М. Аркадьев, А. А. Кибрик, Кс. П. Семёнова, С. Г. Татевосов. М.: Языкознание, 2023а. 459 с.
Алпатов В. М. Жизнь лингвиста: воспоминания. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2023б. 216 с.
Алпатов В. М., Аркадьев П. М., Подлесская В. И. Теоретическая грамматика японского языка: в 2-х кн. М.: Наталис, 2008. 560 с.
Алпатов В. М., Валентинова О. И., Никитин О. В. Макс Мюллер в истории языкознания: забытая классика или трамплин в будущее? К 200-летию со дня рождения // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2023. Т. 14. № 3. С. 616–632. DOI: 10.22363/2313-2299-2023-14-3-616-632
Андронов А. В. Научное наследие Е. Д. Поливанова в Средней Азии // Письменные памятники Востока. 2018. Т. 15. № 4 (вып. 35). С. 111–136. DOI: 10.7868/S1811806218040088
Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. «Дело славистов»: 30-е годы / Отв. ред. Н. И. Толстой. М.: Наследие, 1994. 284 с.
Гумбольдт В. фон. Об изучении языков, или план систематической энциклопедии всех языков // Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры / пер. с нем. М.: Прогресс, 1985. С. 346-349.
Боргоякова Т. Г., Биткеева А. Н. Тувинский компонент билингвального пространства или размышления о стратегии государственной поддержки тувинского языка // Новые исследования Тувы. 2023. № 4. С. 290-300. DOI: 10.25178/nit.2023.4.20
Боргоякова Т. Г., Донгак Ч. Б. Развитие билингвизма в Республике Тыва: дихотомия ценностей прагматизма и идентичности // Языки и фольклор коренных народов Сибири. 2024. № 2 (вып. 50). С. 75–86. DOI: 10.25205/2312-6337-2024-2-75-86
Боргоякова Т. Г., Покоякова К. А. Смысловые зоны восприятия языков в контексте национально-русского билингвизма Южной Сибири // Новые исследования Тувы. 2022. № 4. С. 53–64. https://doi.org/10.25178/nit.2022.4.4
Бурас М. Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах её участников. М.: Individuum, 2019. 360 с.
Бурас М. М. Лингвисты, пришедшие с холода. М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2022. 410 с.
Виноградова Е. Н. Грамматикализация, лексикализация и прагматикализация (на материале конструкций, включающих предлог ПО) // Вопросы языкознания. 2023. № 1. С. 54–87. DOI: 10.31857/0373-658X.2023.1.54-87
Вихрова А. Ю., Лыпкань Т. В., Федотова Н. Л. Реализация мягкости русских согласных в устной речи русскоязычных билингвов в Германии // Филологические науки. 2023. № 3. С. 3-10. DOI: 10.20339/PhS.3-23.003
Горбов А. Пассивизация непереходных глаголов в русском языке: существует ли системный запрет? // Scado-Slavica. 2022. V. 68. № 1. Pp. 23-45. https://doi.org/10.1080/00806765.2022.2053579
Джусупов М. Язык и культура в системе межкультурной коммуникации // Филологические науки. 2023. № 5. С. 21-28. DOI: 10.20339/PhS.5-23.021
Дыбо А. В. Тюркологические исследования Е. Д. Поливанова // Российская тюркология. 2020. № 3-4 (28-29). С. 68-88.
Зибер И. А. Чукотские сонорные согласные в типологической перспективе // Вопросы языкознания. 2024. № 2. С. 122–142. DOI: 10.31857/0373-658X.2024.2.122-142
Козлов А. А. К семантической типологии проспектива // Вопросы языкознания. 2021. № 2. С. 28–52. DOI: 10.31857/0373-658X.2021.2.28-52
Макаров И. С. Преобразование «цепочка фонем» → «речь» в динамических моделях: Обзор // Вопросы языкознания. 2024. № 1. С. 128–155. DOI: 10.31857/0373-658X.2024.1.128-155
Плунгян В. А. Параллельный корпус как грамматическая база данных и Новый Завет как параллельный корпус (предисловие) // Acta Linguistica Petropolitana. 2023. Т. 19.3. С. 15–38. DOI: 10.30842/alp230657371931538
Плунгян В. А. Корпусная лингвистика на современном этапе // Вестник Российской академии наук. 2024. Т. 94. № 9. С. 787-794. DOI: 10.31857/S0869587324090018
Урысон Е. В. О статусе грамматической категории вида в русском языке: взгляд лексикографа // Вопросы языкознания. 2021. № 6. С. 99–116. DOI: 10.31857/0373-658X.2021.6.99-116
Чеснокова О. С., Мартыненко И. А. Языковые параметры национальной идентичности перуанцев через призму топонимии Перу // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2024. Т. 15. № 3. C. 914-934. DOI: 10.22363/2313-2299-2024-15-3-914-934
Abbasi M. H., David M. K. and Ali A. Internal migration and changes in language repertoire among Sindhi youth // Russian Journal of Linguistics. 2023. Volume 27 (4). Pp. 865-885. DOI: 10.22363/2687-0088-34258
Bogaards M. The discovery of aspect: A heuristic parallel corpus study of ingressive, continuative and resumptive viewpoint aspect // Languages. 2022. Volume 7 (3). P. 158. DOI: 10.3390/languages7030158
Dahl Ö. Perfects Across Languages // Annual Review of Linguistics. 2022. Volume 8 (1). Pp. 279–297. DOI: 10.1146/annurev-linguistics-031120-123428
de Swart H., Tellings J. and Wälchli, B. Not … until across European languages: A parallel corpus study // Languages. 2022. Volume 7 (1). P. 56. DOI: 10.3390/languages7010056
Higashiizumi Y., Shibasaki R. and Takahashi K. From truth to truly: The case of shinni ‘truly’ in Japanese compared to Chinese, Korean and Thai counterparts // Russian Journal of Linguistics. 2024. Volume 28 (4). Pp. 843-864. DOI: 10.22363/2687-0088-40518
Nesset T. Norwegian Compounds and Corresponding Constructions in Russian: The Case of Nouns with Deverbal Heads // Scando-Slavica. 2022. Volume 68 (1). Pp. 73–95. DOI: 10.1080/00806765.2022.2053577
Park J. The evolution of pragmatic marker zenzen in Japanese: From objectivity to intersubjectivity // Russian Journal of Linguistics. 2024. Volume 28 (4). Pp. 865–890. DOI: 10.22363/2687-0088-40516
Ponton D. M. The meaning of welcome. Positive migration discourse // Russian Journal of Linguistics. 2023. Volume 27 (1). Pp. 134-151. DOI: 10.22363/2687-0088-33319
Ramonienė M. and Ramonaitė J. T. Language attitudes, practices and identity in the new Lithuanian diaspora // Russian Journal of Linguistics. 2021. Volume 25 (4). Pp. 1024-1046. DOI: 10.22363/2687-0088-2021-25-4-1024-1046