Семантические комплексы в российской антропологической лингвистике: смысловые единства и их составляющие
Aннотация
Исследуются представления о семантических бинарных комплексах в российской антропологической лингвистике (лингвокультурологии) и описываются противосмыслы (антиконцепты) высшего уровня абстрактности «несчастье», «несправедливость» и «неблагодарность», которым пока что должного внимания не уделялось. Отмечается отсутствие единства мнений относительно сущности противопоставления членов бинома и относительно понимания смысла и противосмысла, где существуют две основных точки зрения: 1) антиконцепт противостоит концепту по любому признаку; 2) в основе противопоставленности концепта и антиконцепта лежит исключительно аксиологический признак. Также устанавливается, что наиболее значимым отличием несчастья от счастья выступает бόльшая конкретность первого, которая на языковом уровне проявляется в способности лексемы «несчастье» принимать форму множественного числа, невозможную для счастья. Если справедливость – образец абстрактной категории, то её «антипод» – несправедливость вполне конкретна: это некоторое положение вещей. Психологически несправедливость опереждает по времени формирования справедливость и, если для абстрактного имени «справедливость» множественное число – это отклонение от нормы, то о конкретности имени «несправедливость» свидетельствует легкость, с которой оно принимает форму множественного числа. «Номинативная плотность» лексических показателей благодарности не особо велика, но она, безусловно, имеет место. В то же самое время неблагодарность никаких других средств выражения кроме производных от основы «неблагодарн-» не имеет. В семантике неблагодарности столько же, если не больше, характеристик, не связанных с общими с благодарностью антонимическими признаками. Таким образом, можно утверждать, что в психологическом плане формирование оппозитивных пар концептов высшего уровня начинается с более конкретного отрицательного противочлена, в то же самое время номинативная плотность средств выражения антиконцепта необязательно превышает номинативную плотность концепта.
Ключевые слова: Семантическое единство, Концепт, Антиконцепт, Оппозиция, Несчастье, Несправедливость, Неблагодарность
Введение
«Кризис роста» постсоветского омонима антропологической лингвистики – лингвокультурологии и её ипостаси – лингвоконцептологии, случившийся в начале 2000-тысячных, разрешился путем экспансии её предмета, с одной стороны, «вглубь», когда объектом изучения стали составляющие лингвокультурного концепта – главным образом, метафорически-образная, а, с другой, – «вширь», когда таким объектом стали множества различных смысловых образований – концептуальные поля, гипер-, сверх- и макроконцепты (Воркачев, 2011: 69–70). Особый исследовательский интерес в области множественных смысловых комплексов, как представляется, вызывают семантические биномы – концептуальные пары, получающие имя «бинарных концептов», «сопряженных концептов», «сопряженных категорий», «концептуальной диады», «семантического единства», «ментальной структуры», «концептуальной оппозиции», «составляющих лингвокультурной идеи» либо не получающие специального названия.
Теоретический обзор
В состав концептуальных пар иногда входят близкие или даже смежные по смыслу семантические образования, такие как, например, зависть и ревность (Несветайлова, 2012), скромность и ханжество (Шевченко, 2010), однако по большей части здесь присутствуют смыслы, образующие оппозицию по тому или иному признаку: мать и отец (Листрова-Правда, 1999), гордость и стыд (Малахова, 2011), бог и дьявол (Передриенко, 2006), жизнь и смерть (Пономарева, 2008), память и забвение (Сабадашова, 2011), великое и ничтожное (Боева-Омелечко, 2013), лицемерие и искренность (Храмова, 2010), glory и disgrace (Русина, 2008) и пр.
Исследовательский интерес ко вторым членам оппозитивных пар, получивших название «антиконцептов», возник где-то на десяток лет позже интереса к первым членам этих пар – концептам. С начала нулевых появился целый ряд работ, в которых теоретически осмысливалась функциональная предназначенность концептуальных пар, их семантическая структура и взаимоотношения их членов, а также средства их вербализации (Новодранова, 2007; Гуреева, 2007; Степанов, 2007; Приходько, 2013; Боева-Омелечко, 2014; Буженинов, 2017 и др.).
В ходе исследования концептуальных биномов были установлены их базовые свойства и основные черты входящих в них противосмыслов – антиконцептов, разработаны принципы их классификации.
Так, по общему мнению, двоичная противопоставленность представляет собой универсальную и анропоцентричную характеристику бытия, сознания и языка (Малинович, 2011: 61; Соловьева, 2016: 4). В онтологии этот экзистенциальный дуализм проявляется в категориях янь и инь, космоса и хаоса, мира и антимира, вещества и антивещества. Бинарные оппозиции в мышлении проявляются первыми и заложены у человека на бессознательном уровне (Соловьева, 2016: 7), они позволяют описывать любую картину мира[1]. В то же самое время бинарные противопоставления соотносимы с синергетическими понятиями симметрии и асимметрии, лежащими в основе саморазвития систем.
Установлено, что в логико-философском плане бинарное противопоставление представляет собой семантический аналог антонимии (Новиков, 1973: 29; Боева-Омелечко, 2013: 124; Гуреева, 2007: 17), а смысловая структура оппозитивных биномов находится со структурой соответствующей антонимической парадигмы в отношениях гомоморфизма. Отношения противостоящих членов подобных семантических биномов характеризуются контрарностью и взаимообусловленностью, они входят в одну и ту же семантическую область.
Относительно сути противопоставления членов бинома и, соответственно, относительно понимания и определения концепта и антиконцепта сложились две основных точки зрения. Согласно одной, предельно широкой, антиконцепт противостоит концепту внутри оппозитивной парадигмы по любому, неважно какому, признаку, когда антиконцепт – это просто «концепт, противопоставленный какому-то другому концепту» (Степанов, 2007: 20–21). Согласно другой, более узкой точке зрения, в основе противопоставленности концепта и антиконцепта лежит аксиологический признак, когда антиконцепт исключительно отражает какую-то антиценность (Приходько, 2013: 67). Можно заметить, что «ценностная» точка зрения на противопоставленность концепта и антиконцепта несколько уязвима, поскольку любой концепт, а тем более лингвокультурный, формируется в сознании как «сгусток культуры в сознании человека» (Степанов,1997: 40) лишь в том случае, если он представляет собой для человека определенную ценность: обладает свойством удовлетворять или препятствовать («антиценность») удовлетворению какой-либо его потребности. В то же самое время можно видеть концептуальные пары, в которых оба члена принадлежат одной и той же аксиологической области и обладают одинаковым оценочным знаком – гипертония и гипотония, например, а антиценности способны удовлетворять потребности человека – наркотики и порнография, например. В любом случае смысловое противопоставление осуществляется в границах общей для концепта и антиконцепта семантической области, которая получает название «метаконцепта» (Ларина, 2011: 5), «мезоконцепта» (Приходько, 2013: 68), «лингвокультурной идеи» (Воркачев, 2007: 19) и пр.
Антиконцепты, как и концепты, получают свою типологию и классификацию: по признаку кванторности выделяются универсальные, этноспецифические и индивидуальные антиконцепты, по форме присутствия в оппозитивном биноме положительного члены выделяются антиконцепты с эксплицитным, имплицитным и лакунарным контрагентом (Приходько, 2013: 74).
В ходе рассмотрения оппозитивных концептуальных биномов были установлены основные специфические свойства антиконцептовна фоне их противочленов – концептов (Буженинов, 2017: 167; Гуреева, 2007: 17), такие, как: 1) вторичность, производность от концепта; 2) более сложная семантическая структура и её большая наполненность; 3) большая номинативная плотность (вербализованность, объективированность), обязательность номинации; 4) несводимость к антонимии, которая служит лишь средством его выражения.
Научные результаты и дискуссия
Инвариантные свойства антиконцептов устанавливались, главным образом, на материале терминологических систем – медицинской (Буженинов, 2017; Новодранова, 2001) и спортивной (Гуреева, 2007). Думается, было бы любопытно выяснить еще и то, как эти свойства представлены в области абеляровских концептов наиболее высокого уровня абстракции, с которых, собственно, и пошла быть концептология, – в обыденных аналогах этических терминов (Арутюнова, 1999: 617) и мировоззренческих универсалий, в которых концентрируются ценности культуры[2]. Для описания семантики подобных абстракций высшего уровня, постигаемых умозрительно и обладающих многослойной и разнокачественной смысловой структурой, когнитивная методика, разработанная для изучения предметно-событийных концептов (Бабушкин, 1996: 43–68), оказывается недостаточной, её приходится дополнять методами лингвокультурологического анализа (Воркачев, 2011: 69). Семантические признаки выделяемых в семантическом составе положительных членов оппозитивных биномов – концептов могут не находить симметричного отражения в семантическом составе отрицательных членов – антиконцептов, причем это может происходить на уровне каждой их оставляющей («слоя» – Степанов, 1997: 45).
В основе семантической оппозитивности, как и в основе антонимии (Новиков, 1973: 31), лежит отношение противоположности (контрарности), которое, помимо дополнительности (комплементарности) как покрытия членами оппозиции всей семантической области родовой категории («живой» – «мертвый»), может отправлять к градуальному нарастанию или убыванию признака в границах родовой категории, что допускает существование в оппозитивной схеме еще и третьего – среднего и оценочно нейтрального члена, что превращает бином в тернарную конструкцию. Так, желание противостоит не только нежеланию как активному отвращению, но и безразличию (Воркачев, 2011а: 16), а любовь противостоит не только ненависти, но и равнодушию (Воркачев, 2011а: 217). Тернарную структуру, например, образует «градиент концепт» (Лунцова, 2008) «дружба – мир – вражда».
Как представляется, особый интерес вызывает исследование таких культурно значимых «антисмыслов», как несчастье, несправедливость и неблагодарность, тем более что положительные смыслы, которым они противостоят, были автором уже достаточно подробно описаны (Воркачев, 2004; Воркачев, 2020: 7–118, 119–224).
Несчастье
В лексической системе русского языка симметрия счастья и несчастья носит исключительно формальный, морфологический характер: на содержательном уровне несчастье антонимом счастья по большому счету не является. В первом же приближении несчастье, как, впрочем, и счастье, распадается на две семантические разновидности: несчастье «внешнее» – неблагоприятные и вредоносные для человека события и обстоятельства и несчастье «внутреннее» – эмоциональное переживание этих событий и обстоятельств (Степанов, 1997: 267). Оба этих несчастья входят в разные синонимические ряды: несчастье «внешнее», которое можно назвать двандвой «несчастье-беда», входит в ряд беда, бедствие, напасть, лихо, поруха, злоключение, злосчастье, невзгоды, неудача, невезенье, а несчастье «внутреннее», которое можно назвать двандвой «несчастье-горе», – в ряд горе, горесть. В то же самое время в речи лексема «несчастье» достаточно часто передает эти два значения нерасчлененно, что дает основания изучать несчастье как «эмотивно-событийный концепт» (Мальцева, 2009). Нужно, однако, заметить, что в речи лексема «несчастье» в чисто эмоциональном значении встречается совсем не часто (Татаркевич, 1981: 98), что отражается на структуре словарной статьи «несчастье» в толковых словарях русского языка, где сначала идет событийное значение «беда», а только потом идет эмоциональное значение «горе»[3],[4],[5]. Можно также отметить, что в семантическом составе «внешнего» несчастья нет ассоциаций с невезением, включенных в семантику счастья-удачи, а в семантическом составе «внутреннего» несчастья отсутствуют вероятностные ожидания, присущие радости (Воркачев, 2004: 136–137).
Философы древности обходились лишь счастьем, под которым они понимали некий идеальный эталон жизни, а отклонение от этого идеала – несчастье их не интересовало и рефлексии по поводу несостоятельности судьбы в их рассуждениях, очевидно, не было: «Негативный термин “несчастье” является особенностью современных языков. Философы говорили о счастье чаще всего в смысле идеала, а не характеристики жизни, поэтому они могли оперировать одним словом “счастье”, обходясь без его противоположности» (Татаркевич, 1981: 98–99). Думается, однако, что игнорировали они несчастье как объект изучения совершенно напрасно, тем самым ограничивая свой потенциал познания, поскольку, если идеал один, то отступлений от него бесконечное множество: «ошибаться можно различно (ибо зло беспредельно)» (Аристотель, 1998: 178), поэтому, наверное, «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» (Л. Н. Толстой).
Пожалуй, наиболее значимым отличием несчастья от своего положительного противосмысла выступает его бόльшая конкретность: в подавляющем большинстве случаев несчастье – это вполне конкретное событие или вполне конкретные обстоятельства, причиняющие человеку боль, огорчение, расстройство, заставляющие его страдать. На уровне языка это отличие проявляется в способности лексемы «несчастье» принимать форму множественного числа, невозможную для счастья: «Слово “счастье” не имеет множественного числа, а “несчастье” – имеет» (NN); «Несчастья опадают, словно листья, / и человек стоит и гол, и тверд» (С. Петров); «Несчастья – были. Умирали други. / Землетрясения крушили города» (Б. Слуцкий); «Испытал я несчастья и ласку, / стал потише, помедленней жить (Я. Смеляков); «От притеснений на земле все беды и несчастья (А. Адалис). Существует также мнение, что несчастье отличается от счастья еще и большим постоянством и интенсивностью: «Счастье мимолетно, его трудно удержать; несчастье же, наоборот, отличается постоянством и редко бывает непродолжительным»; «Несчастье более интенсивно, чем счастье, а поэтому и более продолжительно: на несчастье не действует время; время излечивает боль, страдания, но не несчастье» (Татаркевич, 1981: 99–100).
Как представляется, бόльшая конкретность несчастья на фоне своего положительного противочлена позволяет усомниться в универсальности тезиса о производности антиконцепта от концепта, поскольку здесь он входит в прямое противоречие с базовым гносеологическим постулатом о первичности в познании именно конкретного: и в филогенезе, и в онтогенезе человек сначала на физиологическом и интуитивном уровне, на уровне боли и страдания составляет представление о несчастье, а уж только затем у него формируется понятие идеальной жизни и судьбы.
Безусловно, несчастье нерасторжимо связано со своим положительным противосмыслом: оно выступает контрастным фоном для счастья и его условием, в то же самое время конкретные несчастья-неблагоприятные события могут не оказывать на удовлетворение жизнью в целом никакого влияния. Так, несчастье переживается с особой остротой при воспоминаниях о счастливых временах (Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria – Dante), а в русской культуре невозможно оценить должным образом свое счастье, не испытав несчастье (Воркачев, 2012: 72) – «Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам, / Не испытав его, нельзя понять и счастья» (Е. Баратынский), а в отечественном православии к блаженству ведет страдание: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5: 4). Парадокс «русского счастья» заключается еще и в том, что наибольшее ощущение счастья переживается человеком именно в самые сложные для него моменты, наполненные неблагоприятными событиями, т. е. несчастьями: войнами, революциями, катастрофами.
В семантическом составе счастья, помимо рационального момента – рефлексии по поводу успешности собственной жизни, обильно присутствует момент эмоциональный – переживание степени соответствия своей жизни её желанному идеалу, и переживание это поддается, как и большинство эмоциональных проявлений, градуации: оно соотносится либо с пронзительной радостью, либо с тихим удовлетворением (Татаркевич, 1981: 1000). В этом случае «фелицитарная логика» может стать трехзначной, включив в число операторов, помимо «высокого и огненного счастья» (А. Ахматова) и несчастья, еще и «средний член», получающий обычно имя благополучие (англ. well-being, фр. bien-ȇtre, укр. добрόбут). Психологически такая структура вполне объяснима, поскольку благополучие чаще всего принимается за норму и не замечается, как здоровье (Татаркевич, 1981: 99): «Счастье – как здоровье: когда его не замечаешь, значит оно есть» (И. Тургенев). В то же самое время в этой логике несчастье как неблагоприятные события может выноситься за скобки, и тогда здесь останется противопоставление «высокого счастья» и «мещанского благополучия» (Воркачев, 2012: 71; Карасик, 2013: 155–156;), уравниваемого с несчастьем, подвига и скуки у людей романтического либо пассионарного склада личности, которым, как герою пьесы А. Островского актеру-трагику Геннадию Несчастливцеву, в отсутствии неприятностей «удавиться хочется».
В психологические фелицитарные теории, где под счастьем понимается обоснованная удовлетворенность жизнью в целом (Татаркевич, 1981: 41; Аргайл,1990: 5–6), вполне симметрично вписывается несчастье как отсутствие подобной удовлетворенности – неудовлетворенность (Татаркевич, 1981: 99–100). Состояние несчастья, как и состояние счастья, в первую очередь зависит от той фелицитарной концепции (Воркачев, 2004: 62–77), которую разделяет человек, а выбор этой концепции в свою очередь зависит от типа личности, определяющего жизненные установки человека.
Так, для носителей гедонической концепции счастья, усматривающих высшее благо в наслаждениях, и для носителей её ослабленного варианта – эпикурейской концепции, для которых счастье – это отсутствие несчастья («Счастье состоит не столько в наличии удовольствия, сколько в отсутствии страдания» – А. Шопенгауэр), удовлетворенность жизнью в целом аннулируется событиями, приносящими продолжительные физические или моральные страдания, которые выступают здесь в функции факторов несчастья. В то же самое время для носителей пассионарной фелицитарной концепции факторами несчастья будут скука и рутина – отсутствие значимых событий, в том числе и неблагоприятных. Для последователей стоицизма – сторонников фелицитарной концепции добродетели счастье состоит в следовании нравственным принципам, а несчастье, соответственно, в отступлении от них, беда только в том, что эмоции, (а счастье, главным образом, – эмоциональное состояние), неподконтрольны воле человека, и достаточно сомнительно, чтобы чувство удовлетворенности жизнью в целом можно было бы вызвать только осознанием выполненного долга. Для редких сторонников телеономной концепции счастья как «меры достижения смысла жизни» (Попов, 1986: 9) или реализованности человеком своего предназначения несчастье, соответственно, – это невозможность самореализации, невозможность «состояться», соответствовать своему жизненному призванию и своей миссии. Можно еще раз отметить, что множественность представлений о счастье обуславливает тот факт, что отдельные неблагоприятные события не могут перекрыть конечного, «холического» удовлетворения жизнью в целом.
Несправедливость
Справедливость вместе с благодарностью для Дж. Локка представляется эталоном, образцом абстрактной категории – «отвлеченной идеей добродетели» (Локк, 1985, т.1: 493). Она «не имеет реального, онтологического существования – есть лишь нормы и представления об идеале» (Кучуради, 2003: 20). В то же самое время её «антипод» – несправедливость существует реально, она конкретна, её легко можно увидеть, это «некоторое положение вещей» (Кучуради, 2003: 20). И, наверное, совсем неслучайно на просьбу привести пример несправедливости в опросной анкете респонденты советуют составителю анкеты «кругом посмотреть» (Воркачев, 2009: 126). Психологически, и в онтогенезе, и в филогенезе несправедливость как «всяческое зло» (Платон, 1971, т.3: 240), встреча с которым «нас приводит в ярость… и доводит до исступления» (Зайцев, 1999: 148),опереждает и по времени формирования и по интенсивности переживания свой положительный семантический противочлен (Рикёр, 2005: 13), который на её фоне имеет достаточно «бледный вид» (Дубко-Титов, 1989: 164), т.е. здесь, как и в случае счастья-несчастья, антиконцепт «производит» концепт: «С тех пор, как человек понял – он живет в несправедливом мире, он начал искать справедливость» (Г. Козинцев).
Если для абстрактного имени «справедливость» множественное число – это, скорее, экзотика, отклонение от нормы и неологизм («За стенками склянок столько тайн. / Ты знаешь высшие справедливости. / Аптекарь, / дай / душу / без боли / в просторы вывести» – В. Маяковский), то в пользу конкретного характера имени «несправедливость» свидетельствует легкость, с которой оно принимает форму множественного числа: «Этот источник – отсутствие любви в человеке – порождает все несправедливости, как в плане личном, так и в плане социальном» (А. Осипов); «Поистине величайшие несправедливости совершаются теми, кто стремится к излишествам, а не теми, кого гонит нужда» (Е. Съянова). В то же самое время несправедливость вполне предметна и объектна – она творится и совершается: «Сам государь не знал, что творит несправедливость» (С. Волконский); «После чего они с легким сердцем совершили свою обычную несправедливость: влетело брату словесно, а мне иным образом» (С. Алешин). О конкретности несправедливости косвенно свидетельствует также её преобладающий логико-психологический категориальный статус: в речи имя «несправедливость», прежде всего, квалифицируется как ощущение (Воркачев 2020: 94): «У нее родилось стойкое ощущение чудовищной несправедливости, убеждение, что красота ее недоплачивается» (Ф. Искандер); «Например, ощущение несправедливости, которое я испытывал с раннего детства – речь идет о социальной несправедливости в чистом виде, – создавало во мне определенный критический настрой» (Б. Немцов).
Наблюдения над речевым употреблением имени «несправедливость» в НКРЯ[6] показывают, что в отсутствие развернутого определения несправедливости она толкуется преимущественно через отождествление с такими из её семантических признаков, как неравенство, пристрастие и незаслуженность: «Несправедливость неравенства, о которой я неясно думал и прежде, вдруг представилась мне с такой очевидностью, как будто я отвечал за нее» (В. Каверин); «За них и прощаешь несправедливость, исходно заложенную в неравенстве» (Л. Зорин); «Сначала она ко мне благоволила, выказывала даже пристрастие, которое коробило меня, так как было несправедливостью по отношению к другим, а дома благодаря отношению родителей к детям во мне развилось чувство равенства и потребность в нем» (В. Фигнер); «Нельзя не увидеть возмутительную и кощунственную несправедливость: несоответствие между достоинствами и недостатками людей, и облегающими их, одних соболями, других лохмотьями» (М. Агеев).
В то же самое время специфические категориальные признаки справедливости (Воркачев, 2020: 113) в семантике её противочлена получают зеркальное отражение, но с противоположным аксиологическим знаком: мерность воздаяния представлена отсутствием меры («Мера везде нужна. Жестокость, несправедливость – это гнусные крайности» – А. Шеллер-Михайлов), универсальная социальность – конфликтогенностью, криминогенностью и деструктивностью для общественных связей («Нуждались ли люди в сверхъестественном откровении, – восклицает Гольбах, – чтобы узнать, что справедливость необходима для сохранения общества и что несправедливость создает только скопища врагов, старающихся вредить друг
другу?» – Г. Плеханов).
Несправедливость, безусловно, – категория оценочная, и как любая оценка поддается градуации: эмфатизируется, называется большой, вящей, крупной, великой, величайшей, громадной, огромной, колоссальной, крайней, чрезвычайной, безграничной, безмерной, невиданной, неслыханной, поразительной, совершенной, абсолютной, явной, всяческой и пр. («Это была большая несправедливость, лишившая пенсий десятки тысяч человек» – А. Бовин; «О нет, это величайшая несправедливость – предпочесть мне бессловесного Жака!» – М. Булгаков) и деэмфатизируется, называется малой, мелкой, определенной, обычной и пр. («Он преисполнен любви к человеку, ко всему человеческому роду. Малейшая несправедливость больно ранит его» – В. Кормер; «Подавляет мелкая несправедливость, подлость ближнего, разгул пороков и господство грубой силы» – Н. Никулин). Эмфатизация несправедливости активно осуществляется также лексическими единицами, производными от эмоционально окрашенных имен – ужасная, страшная, жуткая, чудовищная, дикая и пр.: «Ужасная несправедливость: мужчины краснеют до шестидесяти лет, женщины – до шестнадцати» (А. Мариенгоф); «Какое ужасное невежество и какая страшная несправедливость!» (Н. Лесков); «Совершается чудовищная несправедливость, на фоне которой потеря земли и дома кажется пустяком» (В. Краснова). Еще активнее она эмфатизируется метафоризированными лексическими показателями – глубокая, горькая, тяжкая, жгучая, беспросветная, вопиющая, жестокая, немилосердная, зверская, грубая, злая, глупая, наглая, бессмысленная, безумная, упорная, беззастенчивая и пр.: «Как министр сельского хозяйства, ощущаю это особенно остро и считаю глубочайшей несправедливостью» (С. Павлов); «Понимал, что горькая несправедливость требует иных поступков, чем жалкие подачки» (К. Паустовский); «И очень часто слишком долгий мир накапливает собою тяжкую социальную несправедливость, из которой нет выхода» (М. Меньшиков); «Но слезы вскипали вновь и вновь – не от предстоящей солдатчины, а от жгучей несправедливости, учиненной над ним отцом» (Ю. Нагибин).
Несправедливость отличается крайней эмоциогенностью, она вызывает разнообразные вербальные и поведенческие реакции. Зрелище несправедливости вызывает у человека целый спектр отрицательных эмоций различной интенсивности, начиная от огорчения и раздражения и заканчивая ненавистью и яростью («Меня огорчает несправедливость людей» – П. Яковлев; «Человеческое сердце скорбит, видя вокруг себя торжество зла, несправедливости, оно не может примириться с неправдою жизни мирской» – В. Свенцицкий; «Он был в переделках и похуже этой, но возмущала несправедливость» – А. Н. Толстой; «Ты дрожишь от негодования на людскую несправедливость: слагай это в своем сердце» – Н. Лесков; «У меня тоже были круглые глаза, и я тоже трясся от возбуждения, но это был не страх, а ярость на несправедливость судьбы» – В. Ломов). Несправедливость также вызывает эмоции, связанные с уничижением личного достоинства человека – обиду, унижение, оскорбление («Однако его не могли не обижать сухость и несправедливость отца» – К. Куприна; «Значение приговора комиссии Карнеги имело для болгар тем большее значение, что мы нашли Болгарию подавленной и униженной жестокой несправедливостью Бухарестского договора» – П. Милюков; «Наконец, оскорбленный несправедливостью, я сказал что-то неприятное главной инспекторше; меня посекли розгами, и я пришел в отчаяние!» – Ф. Булгарин), она причиняет мучения и страдания («К тому же его мучила несправедливость – ведь детеныши хоть в детстве поплавали, а взрослые?» – А. Олейников); «Да, да, папахен; мы с тобой вообще много страдаем от людской несправедливости» – Д. Мамин-Сибиряк). Несправедливость вызывает физиологические и соматические проявления
эмоций – плач, вопли, прерывистое дыхание, покраснение, жар, тошноту, ступор, боль и пр. («Внутри все горело от несправедливости, а надо придавить в себе амбиции, иначе будет только хуже» – Н. Бестемьянова; «Но тошнота от несправедливости, даже не касавшейся лично его, поднялась в нем до той высоты, когда уже не хочется и жить» – А. Солженицын; «Мне от несправедливости больно, – рассуждал Женя, отчаянно жестикулируя» – Т. Крюкова). Реакция на несправедливость проявляется не только вербально, в виде жалоб, сетований, роптания, укоризны («Он рассказал о ссоре своей с Годуновым, горька жалуясь на несправедливость царя» – А. К. Толстой; «Враги Суворова радовались; доброжелатели сетовали на несправедливость; в армии негодовали» – С. Григорьев), но и поведенчески, в форме протеста, бунта, мести («Ее черные глаза метали молнии – в данный момент она протестовала против всей несправедливости, творившейся в мире» – Т. Тронина; «Человек никогда не мог примириться с тем, что он смертен. Бунтовал против чудовищной, бессмысленной несправедливости судьбы» – Е. Парнов; «Крысолов – символ жесточайшей мести за малейшую несправедливость» – А. Иванов).
Если «из всех добродетелей самая редкая – справедливость» (Грильпарцер), то её антипод несправедливость – повсеместна, вездесуща и вековечна («Разговаривал с Савостиным насчет жизни и несправедливости, повсюду царящей» – В. Гельфанд; «Везде одна несправедливость, да притеснение, да злодейство» – И. Тургенев; «Пишу о Толстом и жалуюсь, через него, на вечную несправедливость во всех людях» – В. Катанян; «Вековая несправедливость, от одного этого запишешься в феминисты» – В. Аксенов), она неизбывна и неустранима («Блат, как и несправедливость в России, неистребимы при любой власти» – В. Баранец; «Вы понимаете, Василий Васильевич, тут ужасная несправедливость – кит, которого ничем не сдвинешь» – А. Ремизов).
Речевое употребление имени «несправедливость» свидетельствует также о том, что в этой категории отражаются возрастные характеристики ее протагонистов: человек особенно чувствителен к проявлениям несправедливости в юности («Всякая несправедливость острее всего ощущается вмолодости» – В. Быков-О. Деркач; «Конечно, он не мог не почувствовать несправедливости, что в молодые годы особенно ранит» – К. Кожевникова).
Неблагодарность
Если благодарность – «самая похвальная из всех добродетелей» (Дж. Бокаччо) и «прекраснейший из цветков души» (Г. Бичер), то её антипод, неблагодарность, соответственно – «худший из пороков» (Т. Фуллер) и «роскошь хама» (Ф. Искандер).
«Номинативная плотность» лексических показателей благодарности не особо велика, но она, безусловно, имеет место: в синонимический ряд благодарности в русском языке входят имена «благодарность» и «признательность», а также выражения «спасибо», «благодарю (покорно)», «благодарствуйте (благодарствую)», «очень (премного) благодарен», «признателен», «мерси» (Воркачев, 2018: 9). В то же самое время неблагодарность никаких других средств выражения кроме производных от основы «неблагодарн-» не имеет и, тем самым, у «неблагодарности» отсутствуют внеконтекстные синонимы.
Если в индоевропейских языках оппозитивное семантическое единство «благодарность-неблагодарность» образуется лексическим отрицанием одной и той же основы (лат. gratia-ingratia; греч. ευχαριστία-άνευχαριστία; фр. gratitude-ingratitude, нем. Dankbarkeit-Undankbarkeit, укр. вдячнiсть-невдячнiсть и пр.), то в турецком языке, например, члены этого единства образуются супплетивно, от разных основ: şükran-nankӧrlük,и, нужно сказать, это имеет под собой определенные основания, так как в семантике неблагодарности столько же, если не больше, характеристик, не связанных с общими с благодарностью антонимическими, отрицаемыми признаками (Воркачев, 2020: 198–199). Действительно, в то время как чувство благодарности вызывается осознанием благодеяния и связанного с ним морального обязательства, в семантике неблагодарности присутствует забвение благодеяния либо усмотрение корыстной мотивировки в действиях мнимого благотворителя. Чувство признательности здесь замещается безразличием либо враждебностью. Неблагодарность отмечена противоположной благодарности направленностью: если благодарность идет от облагодетельствованного к благотворителю, то неблагодарность – это уже реакция благодетеля на отсутствие ожидаемой благодарности. Если функционально благодарность – регулятор межличностных отношений и в определенной мере гарант социального мира, то её антипод – конфликтогенное моральное качество[7], разрушающее добрые отношения между людьми.
Наблюдения над речевым употреблением имени «неблагодарность» в НКРЯ[8] позволяют выделить и другие свойства этого антиконцепта.
Так, неблагодарность, как и её антипод (Воркачев, 2020: 161), – это семиотическая категория, план выражения которой представлен чаще всего какой-либо эмоциональной реакцией или враждебным действием. В качестве крайне отрицательного морального свойства получателя благодеяния неблагодарность вызывает отрицательную реакцию, как у благотворителя, так и у постороннего наблюдателя. Она вызывает, прежде всего, возмущение, негодование, обиду и досаду: «Согласитесь, что нельзя не возмутиться подобной неблагодарностью» (П. Чайковский); «Днем страх прошел. Осталась только обида на кошачью неблагодарность» (А. Яшин). Из речевых актов, вызываемых неблагодарностью, чаще всего встречаются обвинение, упрек и укор, жалоба: «Домовой продолжал его укорять, обвиняя в черной неблагодарности» (И. Бояшов); «Вы упрекаете русский народ в неблагодарности и тем самым лишаете его величия» (Н. Рерих); «Гинтерштейн принялся жаловаться на неблагодарность Федора Михайловича, не желающего уплатить долг, который он так долго на нем терпел» (А. Достоевская). Нередко реакция на неблагодарность проявляется в стыде, ужасе, удивлении, оскорблении, страдании: «Нет, – сказал я, стыдясь своей неблагодарности, – я его жду» (Ф. Искандер); «Вот почему, если они снова сойдут на арену, они ужаснутся людской неблагодарности и пусть останутся при этой мысли, пусть думают, что это одна неблагодарность» (А. Герцен); «Все это припомнил теперь Спирька и мог только удивляться черной неблагодарности переселенцев» (Д. Мамин-Сибиряк).
Атрибутивное расширение имени «неблагодарность» (чудовищная, гнусная, мерзкая, бесстыдная, низкая, подлая, адская, хамская, возмутительная и пр.) в первую очередь указывает на эмфатизацию реакции на отсутствие должного ответа на благодеяние. В то же самое время почти в половине случаев подобного расширения «неблагодарности» присутствует прилагательное – скорее, эпитет – «черная»: «Зачем же ты, солнышко мое, платишь мне за это черной неблагодарностью?» (Е. Шварц); «Думаю, авось опомнится; не хочется, знаете ли, верить злу, черной неблагодарности в человеке» (И. Тургенев). Определение «черная» помимо эмфатизации означает не просто отсутствие ответной реакции на благодеяние, а проявление враждебности по отношению к благотворителю (Воркачев, 2018: 11): «Русские ответили мне черной неблагодарностью, заключивши союз с Англией и Францией против меня» (В. Шульгин); «Хозяинов отплатил ему черной неблагодарностью. В январе 1953 года, когда на партийном собрании ИФП обсуждалось “дело” врачей, Хозяинов бил себя в грудь и рассказывал, как Ландау плохо им руководил» (И. Халатников).
Неблагодарность – повсеместное и достаточно заурядное свойство человеческой натуры («Людям свойственна неблагодарность. Им свойственно забывать первопроходцев» – А. Проханов), русский паремический фонд наполнен пословицами, отражающим скептицизм относительно человеческой благодарности: «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным»; «Припомню я тебе доброхотство твое»; «Не делай добра – не получишь зла»; «За добро не жди добра»; «Если не хочешь от людей зло получить, не делай им добро» и пр.
Заключение
Особый исследовательский интерес в области множественных смысловых комплексов вызывают семантические биномы – концептуальные пары, в состав которых входят преимущественно смыслы, образующие оппозицию по тому или иному признаку. Исследование вторых членов оппозитивных пар, получивших название «антиконцептов», началось где-то на десяток лет позже изучения первых членов этих пар – концептов. В ходе исследования концептуальных биномов были установлены базовые свойства входящих в них противосмыслов. Относительно сути противопоставления членов бинома и, соответственно, относительно понимания и определения концепта и антиконцепта сложились две основных точки зрения. Согласно одной, предельно широкой, антиконцепт противостоит концепту внутри оппозитивной парадигмы по любому, неважно какому, признаку, согласно другой, более узкой точке зрения, в основе противопоставленности концепта и антиконцепта лежит аксиологический признак, когда антиконцепт исключительно отражает какую-то антиценность.
В ходе рассмотрения оппозитивных концептуальных биномов среднего уровня (медицинских и спортивных терминов) были установлены основные специфические свойства антиконцептов на фоне их противочленов – концептов, такие, как: 1) вторичность, производность от концепта; 2) более сложная семантическая структура и её большая наполненность; 3) большая номинативная плотность (вербализованность, объективированность), обязательность номинации; 4) несводимость к антонимии, которая служит лишь средством его выражения, однако отношения между членами оппозитивных пар, образованных концептами наиболее высокого уровня абстракции, в которых концентрируются ценности культуры, таких, как несчастье, несправедливость и неблагодарность, требуют своего рассмотрения.
Наиболее значимым отличием несчастья от своего положительного противосмысла выступает его бόльшая конкретность, которая на языковом уровне проявляется в способности лексемы «несчастье» принимать форму множественного числа, невозможную для счастья. Бόльшая конкретность несчастья на фоне своего положительного противочлена позволяет усомниться в универсальности тезиса о производности антиконцепта от концепта, поскольку здесь он входит в прямое противоречие с базовым гносеологическим постулатом о первичности в познании именно конкретного. Несчастье нерасторжимо связано со своим положительным противосмыслом: оно выступает контрастным фоном для счастья и его условием, в то же самое время конкретные несчастья – неблагоприятные события могут не оказывать на удовлетворение жизнью в целом никакого влияния. В семантическом составе счастья, помимо рефлексии по поводу успешности собственной жизни, присутствует момент эмоциональный – переживание степени соответствия своей жизни её желанному идеалу, и переживание это поддается градуации, а «фелицитарная логика» может стать трехзначной, включив в число операторов, помимо счастья и несчастья, еще и «средний член», получающий обычно имя «благополучие».
Если справедливость – образец абстрактной категории, то её «антипод» – несправедливость вполне конкретна, её легко можно увидеть, это некоторое положение вещей. Психологически, и в онтогенезе, и в филогенезе несправедливость опереждает по времени формирования свой положительный семантический противочлен, т. е. здесь антиконцепт «производит» концепт. Если для абстрактного имени «справедливость» множественное число – это, скорее, экзотика, отклонение от нормы и неологизм, то в пользу конкретного характера имени «несправедливость» свидетельствует легкость, с которой оно принимает форму множественного числа. Специфические категориальные признаки справедливости в семантике её противочлена получают зеркальное отражение, но с противоположным аксиологическим знаком: мерность воздаяния представлена отсутствием меры, универсальная социальность – конфликтогенностью, криминогенностью и деструктивностью для общественных связей. Несправедливость отличается крайней эмоциогенностью, она вызывает разнообразные эмоциональные, вербальные и поведенческие реакции.
«Номинативная плотность» лексических показателей благодарности не особо велика, но она, безусловно, имеет место. В то же самое время неблагодарность никаких других средств выражения кроме производных от основы «неблагодарн-» не имеет. В семантике неблагодарности столько же, если не больше, характеристик, не связанных с общими с благодарностью антонимическими, отрицаемыми признаками. Неблагодарность – это семиотическая категория, план выражения которой представлен чаще всего какой-либо эмоциональной реакцией или враждебным действием. В качестве крайне отрицательного морального свойства получателя благодеяния неблагодарность вызывает отрицательную реакцию, как у благотворителя, так и у стороннего наблюдателя.
Таким образом, в психологическом плане формирование оппозитивных пар концептов высшего уровня начинается с отрицательного противочлена, когда вектор направлен от несчастья к счастью, от несправедливости к справедливости и от неблагодарности к благодарности. В то же самое время номинативная плотность средств выражения антиконцепта необязательно превышает номинативную плотность концепта, примером чего служит неблагодарность.
[1] Руднев В. П. Энциклопедический словарь культуры ХХ века. М.: Аграф, 2001. С. 50.
[2] Степин В. С. Культура // Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 2001. С. 343.
[3] Несчастье // Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 1998. С. 643.
[4] Несчастье // Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Госиздат иностранных и национальных словарей, 1953. С. 367.
[5]Несчастье // Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка: в 4 т. Т. 1. М.: Астрель-АСТ, 2000. С. 556.
[6] Национальный корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru (дата обращения: 21.04.2021).
[7] Козлов Н. И. Благодарность. URL: http://www.psychologos.ru/articles/view/blagodarnost (дата обращения: 07.01.2021).
[8] Национальный корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru (дата обращения: 21.04.2021).
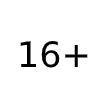


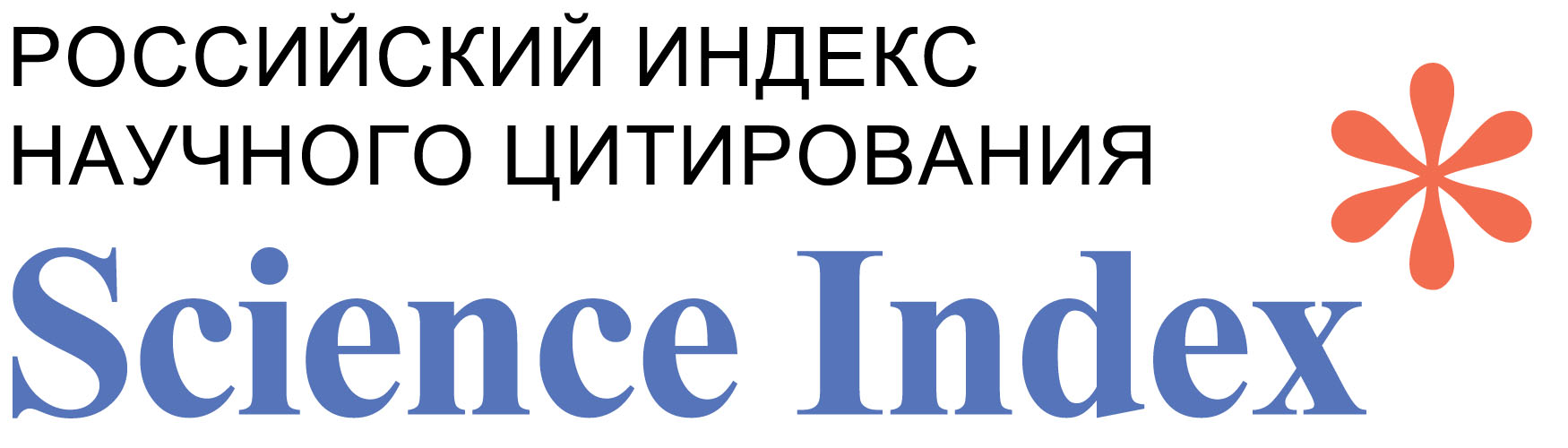




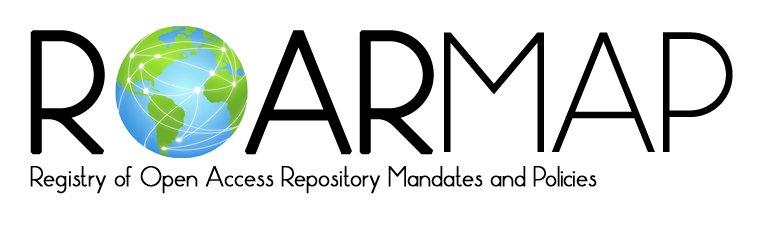

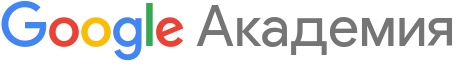


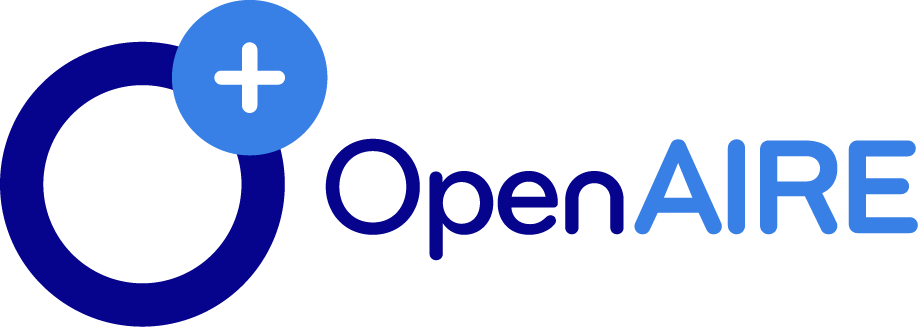




Список литературы
Аргайл М. Психология счастья. М.: Прогресс, 1990. 336 с.
Аристотель. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Мн.: Литература, 1998. 1392 с.
Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1999. 896 с.
Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Воронеж: ВГУ, 1996. 104 с.
Боева-Омелечко Н. Б. Средства вербализации сопряженных концептов «великое/ничтожное» в произведении Дж. Г. Байрона «Дон Жуан» // Научная мысль Кавказа. 2013. № 3. С. 123–126.
Боева-Омелечко Н. Б. Концепт и антиконцепт как диалектическое единство // Когнитивные исследования языка. 2014. № 18. С. 39–42.
Буженинов А. Э. Атиконцепт и концепт как структуры различных категорий в терминологии (на материале гомеопатической терминологии) // Вестник Кемеровского государственного университета. 2017. № 3. С. 167–171. DOI: 10.21603/2078-8975-2017-3-167-171.
Воркачев С. Г. Счастье как лингвокультурный концепт. М.: Гнозис, 2004. 236 с.
Воркачев С. Г. Лингвокультурная концептология: становление и перспективы // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2007. Т. 66. № 2. С. 13–22.
Воркачев С. Г. Правды ищи: идея справедливости в русской лингвокультуре. Волгоград: Парадигма, 2009. 190 с.
Воркачев С. Г. Российская лингвокультурная концептология: современное состояние, проблемы, вектор развития // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2011. Т. 70. № 5. С. 64–74.
Воркачев С. Г. Базовая семантика и лингвоконцептология: на стыке парадигм гуманитарного знания. Saarbrücken: LambertAcademicPublishing, 2011а. 540 с.
Воркачев С. Г. К эволюции языкового менталитета: «русское счастье» // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. Серия Филология. 2012. № 2 (18). С. 69–75.
Воркачев С. Г. Благодарность в лексикографическом представлении // Русистика без граници: Муждународно научно списание. София. 2018. № 1. С. 8–14.
Воркачев С. Г. Какою мерою мерите: идея воздаяния в лингвокультуре. М.: Флинта, 2020. 372 с.
Гуреева Е. И. Понятие «концепт» и «антиконцепт» (на материале спортивной терминологии) // Вестник ЧелГУ. 2007. № 8. С. 16–20.
Дубко Е. Л., Титов В. А. Идеал, справедливость, счастье. М.: МГУ, 1989. 191 с.
Зайцев С. А. К вопросу о понятии справедливости // Вестник Омского университета. 1999. № 4. С. 148–151.
Карасик В. И. Концептуализация благополучия // Языковая матрица культуры. М.: Гнозис, 2013. С. 150–160.
Кучуради И. Справедливость – социальная и глобальная // Вопросы философии. 2003. № 9. С. 17–29.
Ларина М. Б. Корреляция концепта и антиконцепта в лингвокультуре (на материале концептов magic и glamour): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Кемерово, 2011. 19 с.
Листрова-Правда Ю. Т. Концепты МАТЬ и ОТЕЦ в русских пословицах и поговорках // Язык и национальное сознание. Воронеж, 1999. № 2. С. 23–24.
Локк Дж. Сочинения: в 3 т. М.: Мысль, 1985.
Лунцова О. М. Градиент-концепт
дружба – мир – вражда в русской и английской лингвокультурах (на материале лексики и фразеологии): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2008. 21 с.
Малахова С. А. Личностно-эмоциональные концепты «гордость» и «стыд» в русской и английской лингвокультурах. Армавир: АГПА, 2011. 208 с.
Малинович Ю. М. Функционально-семантические категории бинарной оппозиции (лингвофилософский очерк) // Текстовая реализация функционально-семантических категорий и полей. Ростов н/Д., 2011. С. 50–69.
Мальцева Л. В. Эмотивно-событийный концепт «горе, беда, несчастье» в русской языковой картине мира: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Новосибирск, 2009. 24 с.
Несветайлова И. В. Эмоциональные концепты «зависть» и «ревность» в русской и английской лингвокультурах. Армавир: АГПА, 2012. 176 с.
Новиков Л. А. Антонимия в русском языке: семантический анализ противоположности в лексике. М.: МГУ, 1973. 289 с.
Новодранова В. Ф. Концепты и антиконцепты в медицине // Научно-техническая терминология: Науч.-техн. реф. сб. № 2. М: ВНИИКИ, 2001. С. 71.
Новодранова В. Ф. Концепты и антиконцепты и их репрезентация языковыми средствами // Концептуальный анализ языка: современные направления исследования. М.-Калуга: Эйдос, 2007. С. 148–155.
Передриенко Т. Ю. Концепты бог и дьявол в русской и английской лингвокультурах (на материале паремий и афоризмов): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Челябинск, 2006. 23 с.
Платон. Сочинения: в 3 т. М.: Мысль, 1971. 606 с.
Пономарева Е. Ю. Концептуальная оппозиция «жизнь – смерть» в поэтическом дискурсе (на материале поэзии Д. Томаса и В. Брюсова): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Тюмень, 2008. 24 с.
Попов Б. Н. Взаимосвязь категорий счастья и смысла жизни. М.: Наука, 1986. 91 с.
Рикёр П. Справедливое. М.: Гнозис-Логос, 2005. 304 с.
Русина Е. В. Бинарные концепты glory и disgrace в американской лингвокультуре: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2008. 19 с.
Сабадашова М. Г. Лексико-фразеологические способы выражения семантического единства «память/забвение» в русском и английском языках: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2011. 18 с.
Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. 824 с.
Степанов Ю. С. «Понятие», «Концепт», «Антиконцепт». Векторные явления в семантике // Концептуальный анализ языка: современные направления исследования. М.-Калуга: ИП Кошелев, 2007. С. 19–26.
Храмова Ю. А. Концептуальная диада «лицемерие-искренность» (на материале русского и английского языков):
Автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2010. 21 с.
Шевченко И. С. Дискурсообразующие концепты викторианства: скромность vs ханжество // Когниция, коммуникация, дискурс: Междунар. электронный сб. нучн. трудов. Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010. № 2. С. 73–84. URL: https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse (дата обращения: 21.04.2021).